


|
И дружно ему закричали друзья: — Нам всем непонятна манера твоя! И так как они не признали его, Решил написать он себя самого. И вышла картина на свет изо тьмы… И все закричали ему: — Это мы! |
| Л. М. |
Всю жизнь… нет, зачем врать: с 35-и лет мечтал я работать в архиве. Грезился мне, понятно, архив русской литературы при Колумбийском университете; но об этом — зачем врать? — я и не мечтал толком: разве что чуть-чуть грезил. Понимал, что не будет такого. Согласился бы на любой, почти на любой архив… но лучше — литературный. А годы тем временем шли; мечта угасала…
И вот вдруг оказалось, что не всё потеряно. Оглянулся я окрест себя — и увидел, что есть архив про мою душу: мой собственный. Конечно, я — не более чем я, но с лица — не воду пить; что выросло, то выросло; и литература, уж какая ни на есть, тут. Всю жизнь я немножко сочинял; публиковался, пожалуй, даже несколько больше, чем немножко. Донжуанского списка не вел, бросил, когда за триста наименований перевалило, но за тысячу публикаций всё-таки поручусь, даром что всё идет в одно место... жаль, что не в два.
Я — не более чем я; но для кого же мы и пишем? Чем вымышленный герой лучше живого, выжившего? Разве сложносочиненный герой не будет на меня похож, на мой опыт опираться? Каждый романист сперва о себе пишет, а потом — тоже о себе. Вздор, что выдумывать труднее, чем вглядываться в прошлое. Наоборот: с выдуманным — делай, что хочешь, а с собою — дневники и письма не пускают. Вон их сколько за полвека накопилось: гора. Попробуй разбери. А еще — попробуйте поверить, что «вон тот — это я». Разве мама любила такого? В сущности, другой человек вырисовывается. На меня ничуть не похож.
Но изучить памятник (это вам каждый Шлиман скажет) значит уничтожить его. Втыкаешь лопату в холм — и холм уже другой, а с ним — и ты. Всякий наблюдатель, учит нас физика, влияет на объект наблюдения. Маленький объект не предполагает маленького наблюдателя. К тому же за время пути собачка могла подрасти…
Я начинаю с конца: с того, как уезжал из России в год Орвелла… нет-нет, не поправляйте меня, я лучше знаю. («Хэмингуэя» тоже себе оставьте; правильно — Хéмингвэй.) Я уезжал в год Орвелла и Амальрика. Оставшимся сказал на прощанье: «Через четыре года здесь будет голый зад» — и ошибся на два года. Амальрик — ошибся на семь лет. На сколько лет ошибся Орвелл — этого мне не узнать… что и слава богу.
Чемоданы полагалось сдавать в Пулкове за несколько дней до выезда. Чемоданов у нас было четыре да плюс так называемый баул, который, однако ж, был не сундук, а длинный узкий мешок, и не столько для одежды, сколько для одеял и подушек. Эти баулы шили в ту пору на заказ из брезентовой материи — специально для отъезжантов; параметры их были известны и неизменны, как звездное небо и моральный кодекс строителя коммунизма.
Один из наших чемоданов полностью занимали вещи насущные, без которых жить нельзя: портативная пишущая машинка сараевского производства, знаменитый двухтомный англо-русский словарь Гальперина и шестнадцать других книг, в основном ученых, но дорогих скорее как память, а в деловом отношении оказавшихся лишними (о чем я и при выезде догадывался). Много ли можно было запихать в три оставшихся чемодана? Задумаемся на минуту: люди, у которых за плечами целая жизнь (мы с Таней как раз вошли в возраст Пушкина), навсегда покидают родные места, а увезти с собою, из всего предположительно нажитого, им разрешено — вот эти жалкие шмотки: трусы, майки, ночные рубашки и кофточки, брюки, юбки, платьица для ребенка да триста долларов денег наличными. Не анекдот ли? Нацисты — и те так не мелочились, пока отпускали. Где пресловутая широта русской души? Да что мелочность! Это было прямое воровство… — для нас, впрочем, менее чувствительное, чем для большинства: денег у нас не было. Но ведь мы могли бы взять на пару сковородок больше, будь хоть пять чемоданов разрешено.
Помню, как трудно было объяснить всё это людям из цивилизованного мира; поначалу — верить не хотели; не находили оснований для такой жестокости на пустом месте. В особенности перед тремястами долларов в пень становились: как? и всё?! На что я им отвечал: «у советских — собственная гордость». Именно по этому пункту, из гордости, советская власть сама себя высекла: за доллар по официальному курсу давали 56 копеек; за 300 долларов мы заплатили всего 168 рублей. На черном рынке доллар стоил тогда четыре рубля, а то и больше.
Машинка, естественно, требовалась для клеветы на родную советскую власть (от руки клеветать несподручно); ну, и для стихов. Это была наша вторая машинка, маленькая (эрику, сокровище, о котором я вздыхал годами, а приобрел поздно, пришлось оставить, она в чемодан не помещалась… точнее: занимала слишком много места). Машинка очень пригодилась. Служила до 1990 года.
Гальперинский словарь для безъязыких советских беженцев был столпом утверждения истины — или соломинкой утопающего. Достать его в Ленинграде было мечтой, вывезти — проблемой: требовалось письменное разрешение Публичной библиотеки. На мой экземпляр, уже весьма мною потрепанный, купленный за несколько лет до отъезда в известном тогда книжном магазине на углу Пушкинской и Невского, я смотрел с болью и нежностью, как на шагреневую кожу; с ужасом спрашивал себя, что буду делать, когда он совсем обветшает. Но судьба ведь индейка. Словарь, без которого, действительно, жить оказалось невозможно, пришел в окончательную негодность в тот самый день, когда стал не нужен: когда появилась его электронная версия на компактном диске. В свою очередь и она, эта версия, казалась сокровищем — и тоже обветшала, диск был поцарапан, давал сбои… но случилось это как раз к появлению сетевых словарей и круглосуточного интернета… Помнится, в конце XIX века люди подсчитали запасы угля на Земле и ахали: срок жизни человечества — 400 лет, а потом — голодная смерть…
Привозим наши пожитки в Пулково дня этак за четыре до вылета. Тётки с белыми от злобы глазами открывают наши чемоданы, вытряхивают выстиранное и тщательно сложенное в мешочки исподнее на грязные (едва ли не специально выпачканные) столы, перещупывают каждую блузку, каждый носовой платок, каждую пару носков: не спрятан ли где лунный камень. Узнав, что у нас нет «дальнего багажа», еще больше свирепеют. Перещупанное — швыряют так, чтобы проклятые сионисты знали, как велико к ним отвращение честного советского гражданина. Доходит дело до книг. Тут глаза у людоедок загораются:
— Составляем протокол.
— Да отчего же?
— У вас нет разрешения на вывоз книг.
— У нас есть разрешение. Вот оно. — Я открываю первый том Гальперина, куда оно было аккуратно вложено под обложку. Разрешение не только на словари требовалось, а вообще на все книги, изданные до 1956 года. Собрания сочинений, книги большой и малой серии Библиотеки поэта, серии Всемирная литература, даже — серии Поэтическая Россия, жалкой и по тем временам; всё то, что сейчас гроша ломаного не стоит, — всё это было вообще запрещено к вывозу из самой читающей страны в мире.
— Вы должны были предъявить разрешение сразу! — Белоглазая вампирша едва сдерживает разочарование.
Должен? Но спорить нельзя, говорить не стоит. Клиент всегда неправ, а уж если он из сионистов, ему именно правоты не простят. Найдут, на чем отыграться. Законов-то для них нет — и вообще ни для кого их нет в этой богоспасаемой стране… Домой мы вернулись вконец измотанными.
Отвальная, непременное прощание с друзьями, проходила в квартире Наташи Рощиной, на проспекте Суслова (он же — проспект III Интернационала) дом 17 корпус 1 кв. 117. На Воинова, в нашей коммуналке, осталось только необходимое для последнего ночлега да вещи, которые потом предстояло разобрать родне и друзьям: Костиным (теще, свояченице и шурину), Римме Запесоцкой, Боровинским, Рае Каплун. Стол, памятный мне с раннего детства (еще ребенком я под ним от мамы прятался), старинный, с ножками буквой Ж, с деревянными финтифлюшками: кому он достался? кто выбросил его на помойку или отреставрировал?
Отвальная — день открытых дверей. Явились, среди прочих, те, кого я не видел годами, а с ними — и люди малознакомые, вроде Георгия Сомова, о котором не могу сейчас вспомнить, художник он был или писатель; маячит в памяти, что у него обыск в 1983 году случился; значит, человек порядочный. Были Алик Зеличонок и Володя Лифшиц, которых в скором времени ожидали лагеря; Кельберты; Боровинские, Рита Шварц… и вся отказницкая рать, квартира была битком набита, за стол не все смогли сесть, а из полуподпольной литературы вижу только Светлану Вовину, Володю Ханана, Римму Запесоцкую, Лёню Эпштейна.
Наступила точка Омега. Долгожданный, неправдоподобный день, о котором загодя, 7 апреля 1984 года, на Пушкарской, я сочинил:
|
Совершается судьба. Разверзаются гроба. Небо улыбается. Ноги подгибаются. |
Я и дату почти угадал; ошибся на неделю; 18 апреля 1984 года сочинил стихотворение Разрыв-трава:
|
Конец июня, зной и лень, Густеет синева, И — в полночь на Иванов день — Цветёт разрыв-трава. Найти ее, зажать в горсти Разящее быльё, Былое вырвать прочь! Прости, Отчаянье моё. Вот — разрешение оков, Свободы дивной клад. Неразделённая любовь Утрачивает яд. Трава прекрасна и горька, И от сердечных ран Целит вернее, чем строка, Сильнее, чем емшан. Беру, поправшую поправ Без тени торжества, Из всех отечественных трав Тебя, разрыв-трава. |
Наутро 17 июня ездили мы на Ланское шоссе: прощаться с Костиными и таниной подругой Ниной Геворкянц. Лиду Костину и Александру Александровну, мою тещу, мы уговорили в аэропорт не ездить; вижу их в последний момент на балконе, в слезах. Мы садимся в такси. Нина, перед открытой дверцей машины, спрашивает:
— Неужели навсегда?
Я совершенно непроизвольно отвечаю ей:
— Не говори глупостей, — и на секунду вдруг сам верю, что еще увидимся. А ведь мы уезжали навсегда, на другую планету.
О том, что с эмигрантами творят в аэропорту перед самым выездом, мы были наслышаны. Молва передавала, что женщин в гинекологическое кресло сажают. Таню и десятилетнюю Лизу не сажали, бог миловал, однако ж в отдельную комнату заводили и раздевали. Меня — тоже. Ременный пояс, обувь — всё уносили и просвечивали. Таня от изумления спросила:
— А что же в поясе-то можно спрятать?
— Вам виднее! — был ответ.
Лунного камня у нас не нашли… В сущности, и это ведь объяснений требует: почему я не могу вывезти драгоценность, пусть хоть в миллион долларов стоимостью, если она моя? Но в государстве, где всё было ворованное, начиная с воздуха, такого вопроса ни у кого не возникало; и мы не спрашивали.
Между тем лунный камень у нас имелся, хоть и не с собою: перешедшая Тане брошка моей матери, с небольшими бриллиантами, чуть ли не работы Фаберже. До отъезда, в тяжелую минуту, задумав жилищный обмен, мы примеривались ее продать. Выяснилось, что стоит брошка от 5 до 7 тысяч рублей, деньги головокружительные, для нас совершенно сумасшедшие, каких мы никогда в руках не держали; со всем нашим барахлом таких денег мы не стоили; всё до нитки распродав, не выручили бы такой суммы. Потом жилищные планы у нас отпали, и брошка уцелела. Накануне отъезда отдали мы драгоценность заезжей немке-славистке Петре Шлиркампф; иностранцев при выезде не обыскивали, хоть Алмаз-шах вывози. Петра преспокойно увезла ее и при встрече передала нам. Оказалось, что на свободе стоит эта брошка от силы 500 долларов…
Ручной клади разрешалось брать по пять килограммов на человека. Десятилетняя Лиза, спасибо большевикам, тоже шла за человека, а у нее в руках оказалась большая кукла, любимая с раннего детства. Детскую куклу — злобная советская кукла, в форме Аэрофлота, у Лизы вырвала и тоже бросила на весы… прямо по древнеримской истории:
— Что это значит? — спросил квирит.
— Это значит: vae victis! — воскликнул царь Бренн.
Но нет, тут история была другая: мы были победителями, мы уезжали, оттого советская Эльза Кох и злобствовала… Кстати, куклу тоже просвечивали. И правильно! Здесь большевики тоже шли «впереди планеты всей». В кукле ловкие евреи запросто могли спрятать фамильный алмаз, которому, по их, евреев, отбытии, надлежало стать народным достоянием: попасть к другой Эльзе Кох, рангом повыше. На Западе детских игрушек в ту пору не просвечивали, чем пользовались другие мошенники, не сплошь евреи. Потом голливудские фильмы объяснили мне, что детская кукла — самый подходящий контейнер для контрабанды наркотиков.
Ручной клади вышло на весах килограммов этак 17; два нужно было отбавлять. В спешке и нервотрепке Таня вынула из сумок несколько предметов, включая лизины босоножки (снять с ребенка импортные кеды, недавно подаренные иностранцами, представлялось не меньшей жестокостью, чем отнять куклу)…
Одна из провожавших додумалась приехать в аэропорт с букетом гвоздик. Мы взяли их только из вежливости, не знали, что с ними делать, руки-то были заняты, но тут (в кои веки) советская власть неожиданно пришла нам на помощь: надсмотрщица сладострастно разломала головку каждого цветка, привела букет в негодность, и мы, разведя руками в сторону провожавшей, выбросили его в урну.
Больше всего меня беспокоило состояние Тани: я видел по ее бледности, что у нее подскочило давление (в Вене это подтвердилось). По временам она не могла удержаться от слез. Пыталась, чудачка, говорить с Эльзами. Когда одна из них сделала мне замечание, что неприлично размахивать руками на глазах иностранцев, Таня сказала: неприлично и чудовищно не давать нам прощаться с родными и друзьями. В ответ советская власть стала стаскивать с таниного пальца серебряное кольцо с поделочным камнем, которое Таня носила со студенческой поры. Я сказал Тане:
— Потерпи немножко. Это последнее унижение в твоей жизни.
Кольцо было объявлено произведением искусства, запрещенным к вывозу без разрешения Эрмитажа. На деле оно скорее было изделием ремесла: ручная работа; стоило в момент покупки, в 1970-м, 35 рублей, ценность представляло только как память.
О том, что в ту пору значил отъезд, дает некоторое представление письмо из Ленинграда, полученное нами полтора месяца спустя, — его тон и настрой:
«Вот вы и иностранцы, как сказала Лиза, опережая события, на экскурсии в Петропавловской крепости. Сегодня ровно месяц с того памятного воскресенья, когда мы, оставшиеся на 60-й параллели, провожали последним взглядом, до рези в глазах, самолёт, уносивший вас в другой мир. Как долго мы, шестеро, измученные процедурой расставания, следили за выруливанием "нашего" самолета ("это единственный случай, — сказал Лёня, — когда советский самолет — "наш"). А в самый момент взлета кто-то вспомнил, что именно собирался ты, Юрочка, сказать в этот исторический момент (и потом, когда проснешься в Вене на следующий день). Сказал ли? А когда белые мушки запрыгали перед глазами от напряженного вглядывания, когда "наш-ваш-их" самолет превратился в такую же мушку и вовсе исчез — понурив головы, пошли мы в кустики неподалеку и, по предложению Наташи, распили бутылку шампанского (которую она решила не возвращать Г.И., а вернуть только водку). Выпили и закусили, чем Бог послал, а конкретно — "лишним весом". И кружки ваши были употреблены в дело. Посидели мы так немного, про вас вспоминая. Наконец, всё было выпито, съедено, розданы "сувениры" — блокноты, книжечки, детские вещи. Тогда встали мы, вышли из кустиков, и пошли провожать Лёню, самолет которого как раз, наконец, готовился к отлету…»
Лёня здесь — поэт Леопольд Эпштейн; он бывал в Ленинграде наездами, а 17 июня как раз возвращался в Новочеркасск. В Песочной, в Онкологическом институте, сперва прошла операцию, а потом лечилась его жена, Лиза Кваша. Кроме Эпштейна провожали нас Люся Степанова, Римма Запесоцкая, Наташа Боровинская, Рая Каплун (она принесла цветы) и Сергей Костин, танин брат, мой шурин.
Что я такое особенное собирался сказать, о чем говорится в этом письме? У меня был заготовлен целый список высказываний. Может быть, это: «О русская земля, ты уже за бугром!» Или: «Лучше жить в Майями, чем в помойной яме». Было и такое, из Вольтера: «Прочь отсюда! Пусть запрягают моих единорогов!» Было — ямбическое, поспешное и опрометчиво-высокопарное:
|
Когда и впрямь святую эту Русь Покину — вместе с ароматом хлева Все мерзости ее забыть берусь: Не обернусь, а отвернусь без гнева. |
С этим обещанием (возражением и Джону Осборну, и Бродскому) я, как можно видеть, погорячился: мерзости забыть не смог.
В том же письме из Ленинграда читаю:
«В аэропорту нам, провожавшим, "выдали по первое число" — за то, что стояли мы около прохода и вас высматривали. Сцена была такая, что нас всех заколотило, Сережа не смог сдержаться, Рая заплакала, а у меня прокололо висок: началась мигрень. Я готовилась к этим проводам, наученная опытом, но действительность превзошла все мои ожидания… Открытку вашу из Вены я получила в конце июня, и состояние было такое эйфорическое по этому поводу, что не описать просто, прямо захотелось петь и танцевать. Так приятно было узнать, что вы видели нас даже из самолета!..»
Это правда: в крошечном Пулкове всё было видно; самолет выезжал мимо того балкона, где все шестеро стояли и понуро махали нам вслед.
В самолете мы сидели сжавшись, едва обмениваясь словами. Всё чудилось, что счастье могут отнять… мало ли что случится; до взлетной полосы не доедем; в Будапеште аварийная посадка случится; и всё: пиши пропало. Но минуты шли, мы взлетели, небо начало раздвигаться, и всё яснее становилось, что наш страх смахивает на манию величия: не станут делать ничего специального из-за одной-единственной семьи, из-за трех жалких людишек, не станут, даже ради того, чтобы крепко напугать оставшихся. Ибо это ведь тоже отметить нужно: мы трое были единственной семьей эмигрантов во всем самолете. Пока в Пулкове нас шмонали (я уже знал, что это словечко пришло в русский прямо из иврита) у левой стойки таможенного барьера, ближе к таинственным кулисам Аэрофлота, вдоль правой стойки, человек за человеком, двигался без заторов поток обычных пассажиров, сплошь иностранных туристов, приезжавших посмотреть на красоты петровской столицы. В нашу сторону поглядывали — и не понимали…
Мы не знали, что одним с нами рейсом возвращается домой Шарлотта (Лотти) Герц из Базеля, навещавшая в Ленинграде евреев-отказников; зато она слышала о нас и нашем отъезде, с легкостью нас вычислила еще до посадки: слишком мы в глаза бросались; я был пришиблен, Лиза испугана, к Тане то и дело возвращались слезы, да и одежда наша уж очень отличалась от одежды прочих пассажиров, сплошь иностранцев.

Даже после паспортного контроля (то есть после пересечения границы) Лотти не решилась к нам подойти; подошла только после взлета, уже в салоне. Потом она описала наши мытарства в базельской газете Jüdische Rundschau (Еврейское обозрение, 26.7.84). Лотти запомнила историю с цветами: die Blumen des Kindes beinahe zerdrückt, um nachzusehen, ob selbst dort nichts versteckt ist («цветы ребенка почти раздавливали, чтобы проверить, нет ли даже там чего-то [спрятанного]»). Зря Лотти написала «почти»; цветы были погублены… Ее газетный текст, помещенный под большим снимком трех беженцев, сделан в автобусе венского аэропорта. На нем Лиза философически смотрит вдаль; Таня, совсем не грустная, почти смеющаяся, с книгой в руках (не иначе как с подаренным ей Пятикнижием) смотрит на меня, а я что-то кому-то важно трактую. Под снимком значится: Unsere Bilder (снимок наш). Кто его сделал? Лотти в Вене не высаживалась; она летела (нашим рейсом SU657) дальше, в Цюрих. В ее небольшой заметке мы прочли о себе много любопытного. Таня оказалась Натальей (Лотти не расслышала имя); Лиза, из-за ее короткой стрижки, осталась без половой принадлежности: выступает как ihr einziges Kind (их единственный ребенок). Лотти пишет, что сотрудники КГБ не только трепали нас при досмотре, но и провожали до трапа самолета, чего я не запомнил; в самолете, по ее словам, мы выделялись именно тем, что одеты были по-советски нищенски… Я — шарман-шарман — назван неустрашимым борцом, этаким Сидом-Кампеадором: Juri, ein unerschrockener Kämpfer in Leningrader Refusenik-Kreisen, unterschrieb noch wenige Wochen vor seiner Ausreise einen kollektiven Protestbrief an die sowjetischen Behörden («Юрий, неустрашимый борец в ленинградских кругах отказников, за несколько недель до своего выезда подписал коллективное письмо протеста советским органам власти»). Ура! Подпись — подвиг силы беспримерной. Точнее было бы сказать не unterschrieb, а написал или составил, а то совсем смешно получается. Словом Protestbrief Лотти обозначает требование свободной репатриации. Унижения, которым мы подвергались, были, по ее словам, «почти невыносимыми при взгляде со стороны» (Fast unerträglich ist diese erniedrigende Prozedur in den Augen der Unbeteiligten).
В самолете я сидел у прохода, держа на коленях полураскрытый мешок с пожитками. Проходивший мимо человек, стараясь не привлечь внимания стюардессы, осторожно уронил в этот мешок пачку сигарет. Я встрепенулся, но тотчас понял его движение. Оказалось, Таня еще в аэропорту заметила, с каким ужасом он и его жена смотрят на то, что с нами проделывают. Лотти объяснила им и другим недоумевавшим попутчикам, кто мы такие. При высадке в Вене, по пути в аэропорт, тот же немец сунул в лизину сумку денежную купюру в двадцать немецких марок, да так ловко, что ни я, ни Лиза не заметили этого, а видела только Таня. Поблагодарить его нам удалось лишь недели спустя, в письме. Лотти потом рассказывала, что эта пара по фамилии Фогт (Vogt) впервые гостила в СССР, оба были в совершенном восторге от Эрмитажа, центральных архитектурных ансамблей города, вообще от всего увиденного, но разом поняли природу режима и русского гостеприимства на нашем примере. Люди, далекие от политики, они обменялись с Лотти адресами, от нее узнали наш израильский адрес, написали нам. Мы ответили им благодарственным письмом. Фогты откликнулись еще раз: прислали нам венок из засушенных цветов, какие во многих странах вывешивают в рождественские дни на дверях домов.
За секунды до приземления я взглянул в окно и увидел нечто самое обыкновенное. Под крылом была чахлая роща на подступах к венскому аэропорту, дальше, по мере снижения, — сам аэропорт: ангары, самолеты, всяческие служебные машины, люди в комбинезонах, которые просто работали, не сознавая, что они работают и живут на свободе. Это было так странно! Наша свобода была другой. К ней еще примешивался ужас.
Никто нас в Вене не ждал. Ни с кем мы не уславливались о встрече. Входя в здание аэропорта в компании Тани и Лизы, я на минуту испугался: сейчас окажемся совершенно одни; что будем делать? Даже позвонить не можем; не знаем, как это тут делается; да и куда звонить? Ни номеров, ни идеи, ни шиллингов. Посоветоваться не с кем. Всё — на мне. Таня еле на ногах держится, у нее явно подскочило давление.
Но нас встретили. Небольшого роста человек, очень уверенный, мрачноватый и энергичный, с кобурой на правом боку (в сущности, на попе) и walkie-talkie на левом, соткавшись из воздуха, неприветливо спросил по-русски:
— Вы — Колкер?
Мог бы и не спрашивать. Вид у меня был самый красноречивый: растерянный… однако ж не совсем еврейский, а Таня с Лизой и вовсе казались арийских кровей. Появился человек как раз вовремя, тютелька в тютельку; мы не знали, туда ли идем, шли с толпой. Он что-то бросил по-немецки охраннику, тоже при оружии, и повел нас в другую сторону. Паспортного контроля не было; наш багаж мы увидели уже на тележке. Встречавшему этот багаж не понравился: увидев баул, сохнутовец решил, что мы едем в Америку, оттого и встретил нас несколько насупленный, а мы и понятия не имели об этом тонком различии; собирались в дорогу, как все (хотя и то сказать: все, решительно все наши друзья, уехавшие до нас, ехали именно в Америку). Постельные принадлежности, запиханные в баул, как я сообразил потом, требовались в Риме, точнее, в Остии: там был пересылочный пункт для тех, кто отправлялся за океан.
Остия… Как мы мечтали о ней! При начале наших эмигрантских дел именно возможность несколько месяцев пожить в Италии казалась достаточным основанием, чтобы навсегда расплеваться с Россией. Сто раз сказал — и еще раз повторю: бездарная власть резала патриотизм на корню. Даже поняв, что на Западе живут неизмеримо лучше, что профессиональные возможности там несопоставимо шире, что там есть закон и свобода, — даже с этим знанием я всё еще оставался патриотом, всё еще хотел жить и умереть в России. Вполне возненавидел большевизм только тогда, когда понял: так и умру, не увидав мира, не побывав в Италии, в первую очередь — именно в Италии. Беженцы, по полгода и больше сидевшие на нищенском (по их словам) пособии в Остии, преспокойно разъезжали по стране, добирались до Флоренции, до Уффиций… От этого дух захватывало. Рим был мечтой, но еще большей мечтой была Флоренция. Туда — в моих мечтах — я ехал всю жизнь, особенно же с того момента, как двадцати лет отроду прочел (вместе с Таней) Образы Италии Павла Муратова. Правы были большевики, что держали эту книгу в спецхране! Она была куда опаснее Солженицына.
И вот сегодня, сейчас, в Вене, в свободном мире, стоило мне сказать по-русски одно-единственное слово, и мечта всей жизни осуществилась бы… В Нью-Йорке нас ждала квартира; Женя и Вика Левины как раз купили дом за городом, а квартиру в городе держали для нас: знали, что мы получили разрешение. В Париже (я об этом только догадывался; потом догадка подтвердилась) меня ждали; могли и устроить; в Русской мысли нашлась бы для меня работа; мне заочно симпатизировала влиятельная Ирина Иловайская, редактор газеты. Во Фрайбурге (виноват, режьте меня: не могу написать во Фрейбурге), в местах поистине сказочных, в двух шагах от Шварцвальда и Швейцарии, для меня нашлось бы дело, если не прямо должность; лондонец Пол Коллин, помогавший советским «евреям надежды», встречался с Лёней Фукшанским, профессорствовавшим в тамошнем университете, и тот сказал (без моей просьбы к нему): я всем отказывал, а для Колкера место найду. Вмешайся хоть Таня; спроси она меня с сомнением: что нам в этом Израиле? Ведь мы не чувствуем себя евреями, не готовы отдаться упоительной, но чужеватой, из детства не вынесенной сионистской грезе. Однако ж Таня этих слов не сказала. Ни в Ленинграде, когда стало ясно, что старуха Леа Колкер, из дома престарелых в Рамат-Эфале, не будет посылать нам вызовы, если узнает, что мы не едем в Израиль, Таня не возразила твердо (она мечтала об Австралии; о том, чтобы уехать подальше от родины); ни здесь, в Вене, ни полусловом не выразила она своих сомнений. И я сказал сохнутовцу, что мы едем в Израиль.
Никому сейчас не объяснишь структуры этого нашего решения. Никто не поймет, почему я разом отвергал и материальный, и душевный комфорт, вытекавший из жизни на Западе. Но я пишу для себя, объясню себе — в надежде понять себя. Не позволяла проехать мимо одна старомодная штучка, которой никто не видел: совесть. За спиной, в проклятом Ленинграде, отнявшем у нас неотъемлемое, осталось 11 тысяч отказников; иные поколеньями сидели на чемоданах, мечтая именно об Израиле. Как их предать? А ведь большевики только этого и ждут от меня; в очередной раз скажут: посмотрите, так называемые еврейские активисты все как один едут в Америку; потому-то мы и закрыли выезд перед евреями; не хотим, чтоб нас дурачили. Почти то же самое сказали бы иностранцы из групп содействия отказникам; им небезразлично было, куда мы поедем… Заметьте, что все двери в ту пору были перед нами открыты. США беспрепятственно впускали беженцев из СССР; там и льготы предусматривались, и опека со стороны еврейской общины гарантировалась. Европа тоже принимала, хоть и не столь охотно.
Сейчас потому не понять всего этого, что люди преспокойно живут в Израиле и вообще где угодно с российскими паспортами; пожилые и пенсию московскую получают, пусть грошовую. Мир переменился разительно, непредставимо. В этом (и только в этом) Россия стала цивилизованной страной… надолго ли? А в ту отдаленную пору такого и вообразить было нельзя. Решение в Вене принималось почти столь же бесповоротное и роковое, как в России — решение об эмиграции. К счастью, для нас в Вене выбора уже не было. Отступить от своего слова, сказанного Полу Коллину, я не мог. Не скрываю: в 1983 году я произнес его через силу; но я — произнес.
Тут самое время спросить: а Израиль — был ли он хоть на минуту моею мечтой? Был. Лекции Вассермана и Утевского, яркие и цельные фигуры отказников, где первым выступал Роальд Зеличонок, заронили ее в меня. Ошеломляющее прошлое земли и народа сомкнулось с неправдоподобным настоящим: с Шестидневной войной, с армией, где нет дедовщины, где солдаты в свободное время читают Цицерона или Веды в оригинале (подобное я потом сам видел); с языком, обходящимся без прописных букв и обращения на вы; с демократией, какой не то что Восток, а и Запад никогда не знал, потому что еврейское общество две тысячи лет назад перестало быть сословным. Готовность людей вопреки всему жить на узенькой полоске земли над пропастью, в относительной бедности и постоянной опасности лишиться своего имущества (где же «еврейская жадность»?), с постоянным риском для жизни, с готовностью сражаться и умирать за эту землю (где же «еврейская трусость»?), — это не могло не производить впечатления. Примкнуть к этой общности, к этому братству было мечтой, но не первой и не главной. Я не был готов раствориться в этой мечте. Мешала мечта о русской литературе. Мешал вопрос без ответа: в какой мере мое поведение и состояние определяются кровью? (Правильнее было бы сказать: воспитанием.) Не расизм ли это? Мешал индивидуализм, плохо уживающийся с братством (потому что братство плохо уживается со свободой). Потребность в уединении, в артистическом унынии перевешивала все вообразимые радости, вытекающие из общности; даже семья отступала перед этой потребностью… И мешала Италия. Она выступала как другое имя этого артистического уныния, необходимого для последующих протуберанцев мысли и чувства. Взятая у Стендаля и Муратова, в значительной степени вымышленная, домысленная, Италия была мечтой более сильной, чем Израиль. Еще двадцатилетним я сказал себе: если мне не случится пожить в Италии, значит жизнь — не удалась: ни больше ни меньше; так и жил с этой формулировкой. Теперь вообразите, чего мне стоило от Италии отказаться.
Услышав, что мы едем в Израиль, немногословный сохнутовец подобрел, стал разговорчивее. Я поделился с ним едва ли не главным моим страхом: необходимостью выучить иврит. Он в ответ осведомился о моем образовании. Услышав об ученой степени, успокоил меня: через полгода будете свободно читать и говорить.
— Я, — добавил он, — приехал в Израиль семь лет назад — и сегодня целиком прочитываю газету за завтраком.
Потом, в Израиле, я наблюдал таких: тех, кому хватало полугода, чтобы забыть русский, но сам я среди них не оказался. Зря мне был задан вопрос об образовании. Образование скорее мешало. Рекордсмены ассимиляции почти все сплошь были людьми, не перегруженными знаниями. Всех опережали эфиопы.
Мне казалось, что никогда в жизни не забуду я имени сохнутовца, первого встреченного мною израильтянина в должности, первого сотрудника знаменитого Еврейского агентства (Сохнут-а-йегудит), учреждения хоть и не государственного, а всё же представляющего Израиль как никакое другое. До этого — у нас на улице Воинова появлялись израильтяне лишь англоязычные, те, для кого израильский паспорт был вторым. Но человек обычно принимается за воспоминания тогда, когда слова, имена и события, казавшиеся незыблемыми, нетленными в памяти, тускнеют и отступают — вместе с живой жизнью, живой связью с реальностью, тоже отступающей. Сейчас мне чудится, что звали сохнутовца Йосеф Шустер. Совершенно точно был он из Риги. Пусть у него будет это имя. Если я ошибся, пусть оба меня простят.
Йосеф сказал мне, что со мною хочет говорить израильский консул. Действительно, консул явился, и мы с полчаса беседовали прямо в зале прибытия, прогуливаясь среди чужих. Вопросы консула касались, в первую очередь, Якова Городецкого и Ивана Мартынова; всплывали и другие имена. Представления у консула (если это был консул) показались мне сдвинутыми; приходилось объяснять простые вещи. Говорили мы по-русски. Ни имени, ни внешности собеседника моя память не удержала… Консулу не было ни малейшей нужды приезжать в аэропорт, если б он знал, что я еду в Израиль. Выходило, что по этому пункту все обманулись: и КГБ, и Моссад. Позже у меня возникло престранное чувство, что эти два учреждения (моссад как раз и означает: учреждение; полное название: Учреждение по ведению разведки и особой деятельности) обмениваются информацией. Обманулись и некоторые из наших друзей в России и за ее пределами. Многие были убеждены, что в Израиль мы не поедем.
Прежде, чем отвезти нас в сохнутовское общежитие по адресу Marxergasse 18-10, в квартиру, где нам предстояло ночевать, Йосеф, посетовав, что настоящие магазины закрыты на обед, повел нас в продуктовый магазин аэропорта, как я теперь понимаю, крохотный. Магазин меня потряс. Вместо очереди в кассу и очереди к прилавку — никого; помещение чистое и просторное; мы — единственные покупатели. Касса есть, а прилавка нету: самообслуживание. Всё — «на открытом доступе», говоря языком советских библиотек. Бери корзинку и собирай еду, как грибы. И какую еду! Твердокопченая колбаса и бананы лежат в общей куче без всякого почета, с такой непосредственностью, словно и не являются деликатесами и дефицитом. Йосеф меня тоже потряс. Подозреваю, что это был наработанный прием, так сказать, психическая атака. Он не спросил нас: «ну, что бы вы тут хотели?», а начал — хватать какие-то упаковки и коробки и швырять их в корзинку. Именно швырять. Мне совсем стало страшно, когда некоторые вещи (все как одна соблазнительные), уже взятые и в корзину положенные, он, буркнув: «Нет, это не нужно», из корзинки вынимал — и тоже не клал, а именно швырял на прежнее место. Конечно, человек мог спешить. Может, еще кто-нибудь приехал из СССР (поездом, или самолетом из другого города; из Ленинграда-то в Вену был один рейс в неделю; но если кто-то и приехал, то проехал мимо, потому что ночевали мы на Marxergasse 18-10 в полном одиночестве). Да мало ли что могло случиться. Ничего не утверждаю. Но швыряние так прочно запало мне в душу, да и Таню так поразило, что не могу не заподозрить этого сурового, совсем не театрального с виду человека в некотором пристрастии к сценическим эффектам. Кто из нас вполне свободен от роли? И ведь он знал, чем нас поразить.
Трехкомнатная квартира на Marxergasse 18-10 была рассчитана на две семьи; нам разрешили занять все три комнаты. В гостиной, на журнальном столике, каковых я до той поры не видел, лежали стопки литературы на русском языке. Открыв наугад какой-то израильский или эмигрантский журнал, я тотчас вперился в незнакомое слово ментальность, мною, однако ж, немедленно понятое. Призрак разлуки с родным языком явился передо мною во весь рост и в полном вооружении, как тень отца Гамлета. Брать это словечко в свой словарь или отринуть с презрением?
Едва мы расположились, приехала Леа Словин, начальница местного Сохнута, женщина совсем крохотная, но властная и подвижная. Она повела нас гулять. Таня по-прежнему неважно себя чувствовала, и оба мы были словно оглушены, но не могли отвести глаз от некоторых витрин. О моем состоянии скажет тот факт, что, увидев реку, я готов был спросить, как она называется; слава богу, что удержался. Мы не зашли в собор святого Стефана; что делать еврею в этом языческом капище? (Потом я узнал, что из еврейских учебников изгнан знак плюс: за то, что он — крест.) Мы просто гуляли по улицам, а советской власти — не было; совсем как в тогдашней советской народной присказке, неизменно вызывавшей хохот своей неправдоподобностью: «Встал я утром — здрасти! Нет советской власти!» Конечно, чуть-чуть тревожил вопрос: а не угодили ли мы под другую власть, не такую чудовищную (второй такой не ждали), не с колючей проволокой и штыком, а с принуждением нравственным… не поехали же мы в Италию… Я спрашивал себя: не подлаживаюсь ли я под чужое в разговоре с этой женщиной, мне бесконечно симпатичной, но не близкой? Не натягиваю ли маску? Ведь ей-то во мне — не мои русские стихи важны, даже не я сам, а едва ли не только одно: что я завербовываюсь в евреи и в израильтяне.
— Ну, что вас больше всего поразило в Вене? — спросила Леа.
Вопрос застал меня врасплох. Сказать, что меня потрясло, как Йосеф распоряжался в магазине, язык не повернулся. Я вспомнил лифт на Marxergasse 18. В отличие от советских лифтов, он имел только дверцы в шахту на каждом этаже, а дверцы в кабину не было; в этом пустячке чудилась свобода. Ходил лифт бесшумно; кабина была чистая, не разрисованная (слова граффити я еще не знал). Естественно, и на втором этаже лифт останавливался (советские лифты той поры этот этаж игнорировали — чтобы люди свои старческие ноги упражняли и народное электричество зря не разбазаривали). Я всем этим поделился с Леей; сказал, что если одной фразой отвечать, то получается так: в Вене, на какую кнопку ни нажми, всё работает.
— В Израиле тоже всё работает, — ответила Леа.
Во время прогулки я предложил выбрать солнечную сторону улицы.
— Погодите, — откликнулась Леа с улыбкой, — скоро вы будете дорожить каждым клочком тени.
Она повела нас в кондитерскую. Перед выставленной роскошью и ценами мы обалдели и замахали руками:
— Да не надо ничего! Зачем деньги тратить? Ну, купите Лизе мороженное, а нам-то к чему это баловство?
Помню, что на эти слова Леа ответила взглядом несколько недоуменным. Должно быть, привыкла к другому. В итоге все получили по порции мороженного (день был жаркий) — мороженного непостижимой архитектуры, в непостижимо красивых вазочках. Таня опять была тронута до слез: там — от своих доброго слова не дождешься, здесь — незнакомые открывают тебе объятья.
Таня подробно рассказала, как нас шмонали при выезде. Лия взглянула на лизины ноги, потом на танины и немедленно решила:
— Лизе и вам нужно купить босоножки. — Тотчас как из-под земли явился сохнутовский шофер-австриец и повез нас в магазин. Я изводился мыслью о том, что мы одалживаемся. «Лизе, — думал я, — ладно бы: ее советская власть обокрала; тут что-то вроде компенсации; а Тане-то?» В этом духе и высказался. Но Леа настаивала, привезла в магазин, помогла примерить и выбрать. Когда вернулись на Marxergasse, оказалось, что от неловкости и застенчивости Таня взяла не совсем то, что нужно; босоножки жали.
— Ну, так поменяем! — сказала Леа. — Только мне сейчас некогда. Езжайте с шофером, я ему объясню, что делать; он привычный.
Таня ехать отказалась; она неважно себя чувствовала. Поехали мы с Лизой и шофером, взяли на размер больше. Во время процедуры обмена я просто сгорал со стыда… за себя и за близких; это едва укладывается в сознании: не только за себя, а еще за какую-то общность, которую мы представляем. Какую? Русских? Евреев? Русско-советских евреев? Стихийное, чисто советское чувство, вошедшее в кровь: что ты не себя только представляешь, а еще и какой-то коллектив, невозможно было разом победить — и кому? мне, закоренелому индивидуалисту! Я не мог тогда додумать этой простой мысли до конца. Было некогда: я стыдился. Не знал, что такой обмен — рутина на Западе; что у продавщицы и мысли нет осуждать нас. Босоножки мы обменяли, Тане они подошли, и она потом долго носила их в Израиле.
Перед отправлением в Израиль я побывал у Леи в Сохнуте, за бронированной дверью, где получил от нее в подарок пачку писчей бумаги и копирку: вещи драгоценные.
Самолет в Израиль был на следующий день. Утром на Marxergasse 18-10 появилась еще одна семья из СССР. Увидев моих новых компатриотов, я мысленно сжался: какие мы разные! Что у нас общего с этими, может, и замечательными, но совершенно чужими людьми из чужих мест, чьи манеры мне неприятны, чью речь я не готов признать русским языком? А ведь с ними я и мои близкие должны составить один народ, раствориться в общем нуклеотидном котле… Что нас сплотит? Генофонд? Мечта? Труд в поте лица ради выживания?
В самолете было целых четыре семьи репатриантов. Не знаю, где прочие ночевали. Иные могли успеть на израильский рейс в день прибытия в Вену. Взаимного интереса и здесь не возникло: о чем ни заговоришь, всё врозь.
Когда шасси самолета коснулись посадочной полосы в Лоде, все пассажиры дружно захлопали в ладоши. Такое я наблюдал и после, но — только в самолетах компании Эль-Аль и только при посадке в Лоде. Из самолета нас пересадили в автобус, чтобы вести к зданию аэропорта. Взглянув в окно, Лиза закричала:
— Мама, пальмы, пальмы!
Я тотчас вспомнил анекдот: сцену, разыгравшуюся между мужем и женой, несколько лет назад получившими разрешение в Израиль. Когда всё было продано, она сказала ему мечтательно:
— Сколько денег! Можно было бы на юг съездить…
— Дура, — в сердцах возразил муж. — Мы ведь и едем на юг!
Вот и мы оказались на юге, среди пальм.
Друзей в Израиле у нас не было, родни — и подавно. Был Лев Утевский, ученый и художник, один из зачинателей нашей волны культурного движения среди евреев-отказников, — друг, к тому же, Иры Зубер, с которой я одно время работал в АФИ. Жил он в Беэр-Шеве, в пустыне. Лично мы с Утевским знакомы не были — как и с Гришей Кановичем, другим подвижником; у того на квартире для меня начался мой еврейский ликбез, я там в начале 1980-х слушал лекцию по иудаизму Вассермана (…или о еврейских пророках, Утевского?), но в толпе и оживлении этой сходки с хозяином меня не познакомили; а потом Канович уехал — и, честный социалист, определился с женой (детей у них не было) в кибуц Саса. Была у нас в Израиле — неведомая старуха Леа Колкер, славшая нам вызовы; о ней, назывной сестре, я не знал ровным счетом ничего, хоть и состоял в переписке. Свое первое письмо ко мне она, добрая душа, подписала: «мама». В ответном письме мне пришлось разъяснять ей, что лучше пусть она будет сестрой, «потому что посредникам, читающим наши письма, никогда не объяснишь наши еврейские родственные узы». Одной только Лее я позвонил из Ленинграда перед отъездом, сразу после получения виз; она обещала встретить и не велела брать мебель; по-русски говорила нетвердо. Больше мы никому из Ленинграда не звонили, потому что некому было; решили: будь что будет. Что-нибудь да случится. Лучше пусть будет плохая погода, чем никакой.
Оказалось, однако ж, что есть-таки у нас в Израиле хоть и не друг, а приятельница, с которой мы за одним столом сидели, в том числе и у нас на улице Воинова: Наташа Маркова. Как мы о ней забыли? Ее судьба, ее путь в Израиль заслуживали бы отдельного рассказа, даже романа. Худая, как щепка, она была сгустком энергии. Это про нее в песне сказано: «вместо сердца — пламенный мотор». Наташу мы сразу отличили в числе встречавших. Услыхала она о нашем приезде — хм, по радио, по русскоязычному израильскому радио Коль-Исраэль, и кинулась в Лод: спасибо ей. Приехала и Леа Колкер, дряхлая, с палочкой, с лицом терракотового цвета. Присутствовал Яша Кедми (он же Казаков), знаменитый пионер репатриации, выехавший еще до начала массового исхода: в 1969 году. Сейчас он представлял русский отдел министерства иностранных дел. Вероятно, от него все и зависело, что нас касалось: например, куда нас распределят. Но для нас главным встречающим оказался Эдуард Усоскин.
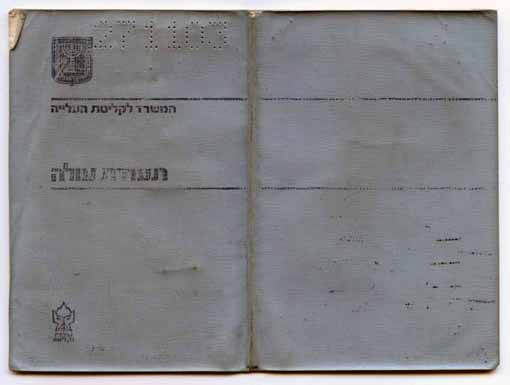
Уж не знаю, кого Усоскин представлял. Может быть, только себя, что тоже было совсем немало. Это был вождь par excellence. Вождь и борец. В нашем случае он всё взял в свои руки, в первую очередь — нас самих, плывших по течению; даже Наташу Маркову оттеснил. Прямо в аэропорту я оказался перед каким-то столоначальником по части алии (репатриации). Чиновник спрашивал на иврите. На целых четыре вопроса я ответил сам без запинки: имя, фамилия, имя отца, имя матери. Вопроса о еврейском имени моей матери, очень обычного в подобных случаях, почему-то не последовало; столоначальник проглотил имя Валентина, не пикнув. На пятый вопрос я тоже ответил сам: еврей. Солгал по их логике, сказал правду — по моей. Стою на этом по сей день: решать тут не им (кто бы ни маячил за этим местоимением, хоть сам Акива с Вавилонским талмудом под мышкой), а мне. Быть евреем — призвание. Оно может осенить человека и может изменить человеку: как всякое призвание, как пророческий или художественный дар. К тому же на моем статусе и материальном положении и другой ответ сказаться не мог: право на репатриацию и льготы я и по их логике имел — как родственник еврея (а моя семья — как родственники родственника еврея). На шестом вопросе мой иврит иссяк. Стоявший за спиной Усоскин переводил. Результатом опроса стал важный документ: теудат-оле, удостоверение репатрианта за номером 271103-3, голубая книжица в клеенчатой обложке, объемом в 22 страницы, размером поменьше, чем в ладонь. В нее столоначальник вложил положенные нам на момент въезда 8500 шекелей, что составляло примерно 42 доллара; шальные деньги… Мысли у меня тоже были шальные: шекель, вспомнил я, это же вавилонский сикль! Лучше бы я вспомнил о том, что инфляция в стране приближалась к 400%.

Затем перед столоначальником оказалась Таня. За нее Усоскин переводил с первого вопроса и до конца. Когда было спрошено, еврейка ли она, Таня ответила: нет, а Усоскин перевел: еврейка. Возникло легкое замешательство. Таня повернулась к Усоскину и сказала, что ей совсем не хочется начинать новую жизнь со лжи; от лжи ведь уезжали — неужто и здесь от нее деться некуда? На это Усоскин возразил ей так: ты приехала сюда жить, значит, ты — еврейка; не осложняй жизни своей дочери; ей, когда до замужества дойдет, это важно будет; брак тут только религиозный. Чрезвычайно любопытно, что столоначальник, по-русски не понимавший (или делавший вид, что не понимает; звали его Йосеф Батишвили), терпеливо ждал, чем закончится совещание. Не представлялось возможным допустить, что он не догадывается о предмете спора. Своим ожиданием он словно бы косвенно подтверждал слова Усоскина. Выслушав доводы Усоскина, Таня не без некоторого усилия согласилась, и чиновник вписал в ее теудат-оле: йегудия, еврейка.
Расистский подход, не правда ли? Но расистом здесь выступал не чиновник, представлявший якобы расистское государство, и не Усоскин, будто бы заставлявший Таню отречься от своих предков; расисткой выступала Таня. Ее подход был, в сущности, совершенно советским. Израиль вовсе не интересовался ее этносом. Чиновник физически не мог записать Таню русской. Такое не предусматривалось. Вписать в теудат-оле можно было лишь один из трех вариантов: еврейка, христианка, мусульманка. Расизм в еврействе исчерпывался тем, что атеист шел за еврея, если родился от евреев. Дальше на первый план выдвигается престранный еврейский Бог, не требующий веры в себя, а только предписывающий некоторые действия и нормы поведения. Этот Бог выступает как символ большой надэтнической культурной общности — потому что евреем (иудеем) можно стать, пройдя обряд посвящения (гиюр), и, наоборот, из еврейства можно выйти, приняв христианство или мусульманство. Но к чему же гиюр атеистке? Разве она, связав судьбу с евреем и Израилем, тем самым уже не примкнула к еврейству, понятому широко, в общекультурном плане? Выходит, что на стороне Усоскина был не только практический здравый смысл, но и логика; его секулярный подход логически дополнял религиозный, совершенно не противореча его духу. Другое дело, если б Усоскин знал, что Таня — крещеная. Или нет, иначе: другое дело, если б Таня дорожила тем, что крещена, считала себя «практикующей христианкой». Такое христианство можно противопоставить еврейству. Были важные прецеденты. В 1940-е или 1950-е католического священника, героя сопротивления нацизму, отказались признать евреем при его въезде в страну, хотя родители его по документам были евреями и сам он, противореча Новому завету, считал себя евреем.
На шести языках — иврите, русском, английском, румынском, французском, испанском — в моем теудате (правильнее: в моей теуде) значилось:
1. Данное удостоверение — официальный документ. Необходимо иметь его с собой при обращении в учреждения, предоставляющие помощь новым репатриантам; необходимо также указывать номер данного документа при письменном обращении в эти учреждения.
2. Правом на хранение и использование данного документа обладают только лица, записанные в нем.
3. Запрещено уничтожать данный документ либо отдельные его части.
4. Вносить в данное удостоверение пометки, исправления, добавления и т. п. имеют право только специально уполномоченные на то лица. Владелец документа таким правом не пользуется.
5. Запрещается вывозить данный документ за пределы Государства Израиль.
6. Об утере данного документа следует немедленно заявить в ближайшее отделение полиции и в Министерство абсорбции.
7. Органы абсорбции вправе востребовать данный документ в любое время и на любой срок по мере необходимости.
На трех из шести языков, на языках Запада, этот текст начинался обращением: «Дорогой/Уважаемый оле (репатриант)», после чего шли те же пункты. На иврите, как и по-русски, он начинался указанием, только совсем коротким: «Репатрианту». По-румынски значилось: «Читателю»… Только по-русски объяснялось, что удостоверение — официальный документ. Восклицательный знак тоже был только русский. Мне еще предстояло понять, что это самый родной, самый русский из всех знаков препинания.
Мою фотографию в удостоверение не вклеили, как я ожидал: ее пришпилили с помощью стаплера двумя скрепками, свирепо исказив мой благообразный лик. Одна скрепка сдавила мне горло, другая прошла через лоб сабельным шрамом. Я как-то не к месту вспомнил Лию Словину, ее слова: «В Израиле тоже всё работает».
Возникла трудность: оказывается, еще до нашего приезда нам определили временным пристанищем центр абсорбции в Лоде. Мы заупрямились, сказали: климат на побережье нам не подходит из-за таниного здоровья; хотим в Иерусалим. Не без некоторого сопротивления нам уступили; в сопровождении молоденькой работницы Сохнута нас отвезли в дом сотрудницы министерства иностранных дел Рут бар-Он, в небольшую (нам показалось: роскошную) прибрежную виллу по адресу ха-Баним 40 в поселке Рамат-а-Шарон, на север от Тель-Авива, чуть южнее Герцлии. Семья была англоязычная, из Южной Африки: Рут, ее муж Джек и пятеро их детей где-то за кадром; из них мы видели только одного, сына Рона, полностью — Ронена, здоровенного призывника (это сочетание Рон бар-Он… барон, крепко запало мне в голову — как нелепица и несуразица; я всё спрашивал себя: неужели их самих-то не тревожит это сочетание звуков; фамилия, однако ж, была древняя, арамейская). Сама Рут бар-Он была человеком идеи, еврейской идеи. При первом знакомстве с нею мне тогда почудилось другое: богатая иностранка (я подумал: американка) играет в еврейство; у нее, небось, в Америке дом и здесь дом (такие потом нам встречались), может, и третий есть, на Багамах; ей бы в нашу шкуру! Будь я настоящим евреем, это едва ли пришло бы мне в голову. Впрочем, полным уродом я не оказался; в первую очередь чувствовал благодарность за гостеприимство и опеку. Не помню, чем нас кормили; помню, что застолье было на западный лад: короткое. Я едва донес голову до подушки. Таня и Лиза тоже валились с ног от усталости. Первую ночь в Израиле, с 18 на 19 июня 1984 года, мы спали в помещении с кондиционерами; первую и единственную. Перед сном подхватил я где-то навязчивую мелодию местной эстрадной песенки. Мужской голос выводил заунывно и неубедительно: «Эцли а-коль бэ-седер», у меня всё в порядке; а мне чудилось нелепое: «Герцлия — а-коль-бэ-седер». Не успел я утром продрать глаза, как песенка опять была тут и долго меня преследовала.
Где-то здесь, в двух шагах от места нашей первой ночевки на исторической родине, в Рамат-а-Шароне, жил в ту пору мой давний знакомый Лев Шварц, с которым я сперва учился на физ-мехе, а потом работал в Агрофизическом институте. Я не знал об этом.
«В следующем году — в Иерусалиме…» Две тысячи лет евреи твердили эту фразу, и вот для нас, для Тани, Лизы и меня, для русских беженцев, следующий год наступил. Мы простились с семьей бар-Он и больше никогда с ними не виделись. В город мечты из Рамат-а-Шарона отвез нас на своей машине Эдуард Усоскин; на него же легло и переоформление каких-то важных документов… то есть не то что легло, а он взял это на себя. Потом не раз подчеркивал, как непросто это переоформление ему далось.
Ехали в гору, в горы. Репатриация на иврите — восхождение, и как раз потому, что Иерусалим — в горах; репатриант (оле) — дословно восходящий. Пейзажи по временам открывались ошеломляющие. Местами дорога (скоростная магистраль, каких я прежде не видывал) была пробита через скалистые холмы, обнажала мощный, преимущественно красноватый срез пород. Поднялись на 700-800 метров над уровнем моря. Некогда это шоссе было проселком, старым, если не древним. Не о нем ли говорит Самуил Маршак в своих ранних сионистских стихах:
|
По древней царственной дороге Вхожу в родной Иерусалим… ? |
Не этим ли путем не сумел дойти до Иерусалима Ричард Львиное Сердце? Из недавних — тоже не все дошли. На обочине нам показали остовы грузовиков, шедших к городу в 1948 году, в ходе Войны за независимость. Те, кто ехал на них, до города не добрались. Обломки стали памятником погибшим. Ржавое, истлевающее железо было аккуратно выкрашено в темно-красный цвет.
Центр абсорбции (мирказ-клита) в районе Гило, на южной окраине Иерусалима, в микрорайоне Б (на иврите: бэт), оказался зданием престранной архитектуры, напоминавшим не то муравейник, не то срезанные под углом пчелиные соты. Честный авангардист, архитектор принес человека в жертву изыску; вдобавок и пространством распорядился плохо, неэкономно. Квартиры лепились одна выше другой со сдвигом вглубь, лестницы к ним вели только наружные, что не совсем остроумно в жарком климате. Нам выпала пещерного типа ячейка за номером 88/30: железная калитка под бетонным ярмом, за нею лоджия (бетонный пол, бетонная ограда и небо над головой), дальше — железная дверь и сразу стеклянная дверь в комнату без окон, довольно просторную, задуманную как гостиная с кухней в углу; в глубине, за кухней, вдоль правой стены комнаты-пещеры, — крохотный коридорчик в совмещенный санузел (сортир и сидячая ванна), не доходя его — дверь в небольшую комнату с окном, предположительно спальню. Это была наша первая отдельная квартира; то самое, что в России нам не полагалось по закону. Из лоджии открывался захватывающий вид вниз, в сторону центра города, на иерусалимские холмы и долины, застроенные домами из светло-бежевого и светло-кремового камня, который в полдень казался белым.
Усоскин разыскал социальную работницу Шошану, она же и сестра-хозяйка (метапелет). От нее мы получили холодильник, матрацы, постельные принадлежности, посуду и столовые приборы с тупыми ножами. В ее обществе я впервые почувствовал себя в кривом зеркале. Внешность у Шошаны была самая что ни на есть еврейская, библейская (или, пожалуй, ашкеназийская, отсылавшая к черте оседлости), что составляло разительный контраст с нашей, особенно лизиной; дочь наша была готовая Аленушка без брата Иванушки, только тощая. Говорить Шошана могла на иврите или по-французски, то есть общего языка у нас не было. На нас, мне чудилось, она смотрела не то с легким презрением, не то с неприязнью: какие они евреи? Ей — чувство столь естественное! — хотелось, может быть, увидеть в приехавших родные черты, а видела она — чужие… Может, и почудилось мне это; может, напраслину возвожу на человека; а с другой стороны — такое ведь и не придумаешь…
Действительность перевернулась для нас с ног на голову: что в России было пороком, того нам здесь не хватало; что там служило щитом, здесь подставляло под удар. Я вспомнил Рут бар-Он: в ней, в ее чертах лица, не было ничего характерного; и во многих других не было; а Шошана предстала передо мною живым упреком… Усоскин уехал, оставив номер своего телефона и условившись о встрече; на прощанье я готов был ему ноги обнимать, а между тем мы уже начинали ссориться.
На следующее утро, в среду 20 июня, прибежала с кучей подарков и покупок (и со своим пламенным мотором) Наташа Маркова; прибежала и потащила нас за продовольствием в гастроном, по местному супер-соль. Магазин ошеломил нас своими размерами, обилием всего знакомого и, особенно, незнакомого. Наташа накупила продуктов; истратила 2200 шекелей (больше десяти долларов); наши деньги наотрез взять отказалась. Едва мы вернулись, чтобы отдышаться и отдохнуть от палящего зноя, она кинулась на нас с расспросами и, пуще того, с рассказами. Расспросы были уместны; там остались общие знакомые, боровшиеся за выезд. Рассказы пришлись не совсем к месту. В Ленинграде Наташа работала машинисткой; в Израиле, по доходившим в Ленинград слухам, тоже: русской машинисткой; а сейчас вдруг оказалась программисткой.
— Послушай, я тебе расскажу, как я решала одну задачу, — начала она за стаканом чаю.
Мне показалось, что я вижу перед собою сумасшедшую. Чудом уцелевшего человека вытаскивают из морской пучины после кораблекрушения — и говорят ему: вот послушай, как я тут одну задачку решила. Конечно, я тоже был сумасшедшим. Кораблекрушением выступала не смена климата, не смена языковой среды. Все мои мысли шли об утраченных рукописях, только часть из которых я надеялся получить (и трепетал от ужаса, что не получу, утрачу навсегда); без некоторых — я человеком себя не чувствовал. За всю мою жизнь я не мог выбросить ни одного письма, ни одного автографа человека самого рядового — судите же, чем для такого безумца становились его собственные черновики. Лишь потом я догадался, что этот специфический вид сумасшествия выделял меня из любого меньшинства, оставлял в полном одиночестве всюду и всегда. Наташа находилась на другом конце диаметра. Человеку, живущему сегодняшним днем, носящему всё свое при себе — такому человеку ее слова про задачку не показались бы полным бредом. Сумасшедшим — должен был казаться я.
Но было и другое. Не только нам, неловким, потерянным, зависимым, ничего не понимавшим, а и самому нормальному человеку эти три дня (Ленинград — Вена — Лод — Рамат-а-Шарон — Иерусалим) показались бы порядочной встряской. В Ленинграде нас напутствовали. Отказники дали нам множество поручений. Эти поручения нельзя было записать, требовалось запомнить. Мы и запомнили их, затвердили, как нам казалось, а когда нас впервые оставили в Гило одних, стало ясно, что ни Таня, ни я не помним ровным счетом ничего; поток впечатлений и усталость вымыли всё подчистую. Выходило, что мы предаём друзей! По счастью, потом, постепенно, что-то начало всплывать. Иван Мартынов, скажем, объявил бессрочную голодовку в день моего отъезда — с требованием работы по специальности или выездной визы. В его голодовку я, по правде сказать, не очень верил, но сообщить-то об этом всё же нужно было… В Риге — Зуншайн, голодавший в тюрьме (этот голодал по-настоящему, потерял в весе 18 килограммов); в Ленинграде Роальд Зеличонок (в итоге угодивший в лагеря) и Надя Фрадкова (попавшая в психушку) — эти и другие люди находились в беде или под прямой угрозой; нужно было передать о них сведения немедленно. Соображения насчет дальнейшей борьбы тоже требовалось довести до сведения тех, кто боролся. Например, Зеличонок хотел создать в СССР еврейские землячества — в противовес советским землячествам в Израиле. В ту пору в Израиле жило немало женщин с советскими паспортами, выехавших по замужеству; палестинцев охотно брали в советские вузы; они — охотно ехали, прослышав, что есть женщины в русских селеньях… Выходило, что обживаться, устраиваться и учиться нам решительно некогда…
Оставили нас одних, я сказал… Это не совсем точно. Железная дверь в наше жилье днем всегда была открыта; она ведь накалялась, а прохлады и без этого не хватало. Стеклянную тоже незачем было закрывать; дверь служила одновременно и окном, источником света, иначе бы днем пришлось электричество включать (что мы подчас делали даже при открытой двери); залетавший иногда ветер — освежал, а от солнца мы заслонялись занавесками… Телефона в нашей пещере не было (чего никак не могли понять люди в Ленинграде, в Париже, в Америке); это немедленно выросло в проблему. И вот, буквально с первого дня, к нам без звонков и предупреждений, повалил народ, почти сплошь незнакомый. Право на такое вторжение немыслимо было оспорить, не хотелось оспаривать: мы были чудом, вырвались из пасти Левиафана. Все хотели знать, как нам это удалось. У многих в отказе сидела родня. Да и вообще было интересно: на нас посмотреть, себя показать; помочь. Это в особенности подчеркиваю: помогали все, с пустыми руками редко кто приходил (такие обычно шли с идеей); несли кто что мог; в холодильнике места не хватало. В крохотной стране мы стали событием: все русскоязычные о нас слышали, от Беершевы на юге до Хайфы и кибуца Сасы на севере. Приходили из соседних пещер центра абсорбции; приезжали из Иерусалима и Тель-Авива, из поселений, из мест, каких мы и по названию не знали. Мы всем были рады; кому же не льстит внимание? Никто нас не обидел; многие нам очень понравились. Тот факт, что помогают чужие люди, особенно трогал, поражал воображение после страны, где человек человеку волк, товарищ и брат. Поток душевного тепла обволакивал…— но человеческий поток не мог не ударить по психике. Спустя несколько дней я поймал себя на старческом, казалось бы, явлении: на неспособности связать знакомую физиономию с именем; со мною здоровались — и я не знал, как отвечать.
Возвращаюсь к телефону, к отсутствию телефона. Ни в одной пещере центра абсорбции такой роскоши не водилось. Были уличные телефоны-автоматы, числом, помнится, шесть. К ним полагалось покупать специальные металлические жетоны, размером (и дырочкой посередине) напоминавшие испанские песо: асимоны. К телефонам-автоматам практически всегда стояла очередь из двух-трех человек. На каких только языках не говорили при мне в телефонную трубку! Английский, французский, испанский, румынский я слышал ежедневно. Ждать в очереди было мукой, особенно, если дело спешное. Я стискивал зубы, сжимал кулаки. Нервотрепка выходила нестерпимая. Хуже того: случалось, и нередко, что телефоны не работали. Вообразите теперь, что вы отстояли очередь, сняли трубку, аппарат проглатывает ваш последний жетон, купить больше негде, одолжить — не у кого, а от вас ждут звонка, и не позвонить значит проявить необязательность! Не совсем оказалась права Лия Словина… или я ее называл Леа Словин? Не важно. Это два прочтения одного и того же имени; на двух языках, которые теперь постоянно мешались в моем сознании… Не всё в Израиле работало, как в Вене. Может, в начальственных кабинетах и работало, а перед уличными автоматами у меня случались тяжелые приступы отчаянья, о которых не забыть.
В центре абсорбции имелась контора, мисрад; туда приносили письма и телеграммы; туда обращались и гости, разыскивавшие обитателей пещерного городка, и сами его жители с различными своими нуждами. В мисраде сидела чиновница Пнина, в связи с которой невозможно не рассказать один из первых услышанных мною израильских анекдотов.
Что такое город А из учебников арифметики? А вот что. Следует рассказ: новые репатрианты (олим; множественное число мужского рода от оле) шумною толпою знакомятся.
— Вы откуда будете?
— Я из Москвы.
— А я из Ленинграда. Очень приятно.
— А вы откуда?
— Я из города А.
— Откуда?!
— Из Черновцов.
— Аааааааааааааааааааааааа…
Снобизм выходцев из столиц предписывал презирать провинциалов. Я сразу же сказал себе: этот вздор — не для меня; люди не по этому признаку делятся. Но вполне освободиться от предубеждения не удавалось — в первую очередь потому, что и в нашей ленинградской жизни мы в значительной степени выбирали друзей по речевому признаку. Вообразите же, как возрос для меня гнет речевого многообразия здесь, в Израиле! В первые дни практически никто вокруг не говорил на нашем языке; помню два-три исключения из правила. Я поклялся перед собою не ухмыляться никаким выговорам, никакому словарю, но мог ли я не замечать диалектизмов и не страдать от них?.. Между прочим, город А, Черновцы, зря шел у снобов за глухомань. Город известен с 1407 года, сперва — как польско-литовский, затем, в течение двухсот лет, — как австро-венгерский; его университет был основан при Габсбургах; в известном смысле Черновцы — больше Европа, чем Москва или Ленинград. Однако речь там своя, для столичного уха не совсем правильная. Особенно режет нашему брату слух полный союз или вместо краткого ли, к тому же и появляющийся не на месте. От фраз типа «Я не знаю, или это дешево», у меня руки опускались. В Ленинграде от такого было невозможно хоть мысленно не расхохотаться, а тут — мы запретили себе презирать кого-нибудь за речевые особенности, и не потому, что мы от людей с такой речью зависели, а из принципиальных соображений. Пытка, иными словами… Аскеза; особенно если вспомнить, что для сочинителя язык не средство, а цель.
Как раз на черновицкий лад говорила эта Пнина в мисраде. Она пришлась к слову, своей партии в моей жизни у нее нет. При ней в конторе были два телефона (671-697 и 673-271), пользоваться которыми можно было лишь в исключительных случаях, например, при звонках за рубеж или из-за рубежа. Звонят мне, скажем, из Британии; попадают на Пнину; она отвечает, что позвать меня не может, а может только записку мне оставить (в том же мисраде, в ящике на букву К), — например, о том, что следующий звонок будет тогда-то. Если я вовремя записку не получил, второй звонок для меня тоже пропал. Если я получил записку и явился в срок к моменту второго звонка, дело тоже не совсем в шляпе. Во-первых, телефон может быть занят; не мне одному звонят из Британии (из Аргентины; из Южной Африки). Во-вторых, если он и свободен, по другому телефону в это же самое время, в двух шагах от меня и прямо над моим ухом, могут говорить (кричать, плакать, смеяться), скажем, по-румынски, а мне при этом нужно говорить и понимать по-английски, что и с глазу на глаз непросто, по телефону же — в особенности. Другие люди тоже тут, в мисраде, и тоже говорят друг с другом и с Пниной, притом громко, как это принято на юге; звуковой фон ужасающий. Если не мне звонят, а я звоню за рубеж, картина столь же безрадостная. В богатые страны, к слову сказать, я звонил всегда по коллекту: с оплатой разговора той стороной; своих-то денег не было. Так любой разговор становился мучением, вырастал в проблему. А дел, моих и чужих, было невпроворот.
Иврит беден словами; много уступает в этом французскому, немецкому, даже русскому, не говоря уже об английском. Не мудрено: язык хоть и древний, а новый. Из библейского языка в новый вошли все слова — и составили там всего 18%. Не знаю, сколько общеупотребительных слов в иврите, зато помню, что во французском их около ста тысяч, в немецком — больше ста восьмидесяти тысяч, в английском — больше шестисот десяти тысяч. Сколько в русском — даже обсуждать не станем: тут люди никогда не согласятся; если с игрой окончаний и суффиксов, то, пожалуй, русский с английским сможет потягаться, а без этой игры — как бы не оказалось меньше, чем во французском, языке, что ни говори, превосходно развитом.
Мисрад на иврите — как и по-английски — не только контора, но и министерство; а мисрад а-хуц (дословно: внешнее ведомство), — министерство иностранных дел. Вот туда-то, в Тель-Авив, на улицу генерала Мендлера 25, я и был приглашен явиться в четверг, 21 июня 1984 года, на третий день жизни в Иерусалиме.
С вечера, с помощью новых знакомых, постоянно входивших в нашу пещеру и выходивших из нее, складывавшихся в ней всё новым и новым калейдоскопическим узором, я разработал план: еду до центральной автобусной станции на 30-м или 31-м автобусе (через весь город; 40 минут, 40 шекелей), дальше — на 405 междугородном автобусе до Тель-Авива (50 минут, 320 шекелей), дальше — на 27 и 51 автобусе до улицы Мендлера, дальше пешком. За четыре часа доберусь, решил я. Едва всё утряслось в моей голове, как один из новых знакомых вызвался пристроить меня к человеку, едущему утром на работу в Тель-Авив на своей машине; оказалось, это совсем не редкость: жить в горах, а работать на побережье. Крохотная страна! Вся простреливается насквозь…
В сущности, русский отдел министерства следовало бы называть разведкой, а беседу, на которую меня позвали, — неформальным допросом. Так мне объяснил мой возница, человек по имени Лев, любезно прихвативший меня с собою. От Гило до Тель-Авива мы добрались меньше чем за час; путь между городами по скоростной магистрали отнял не более получаса.
Русский отдел министерства оказался не очень большим одноэтажным домом с флигелями, напоминавшим усадьбу за колючей проволокой. Беседовала со мною Илана Гуревич, молоденькая, яркая, как почти все израильтянки, холодная и узкая, как лазерный луч. Я смотрел на нее с восхищением, смотрел на нее — и восхищался Израилем, в котором вырастает такая отчетливая и цельная молодежь; сказал бы идейная, не будь это слово скомпрометировано… Я готов был забыть, что сионизм, лучшая из идеологий, — всё-таки идеология, то есть мечта в униформе, мечта, ставшая протоколом, мечта под ярмом. Каким счастьем было бы отдаться этой мечте с детства, принадлежать ей всецело, бездумно!
Я рассказал Илане всё, что знал о ленинградском отказе. Говоря о себе, не скрыл, что в точном смысле слова сионистом себя не считаю; что и в диссиденты-то не своим умом пошел, а был вытолкан туда бездарной советской властью, отнимавшей у человека самый воздух; что поначалу думал эмигрировать на Запад; что главным для себя и в себе считаю русскую поэзию. Мой отчет был исповедью, но Илана не годилась в духовники. Моя искренность пришлась не к месту. В ее глазах я разом стал чужим. Авода зара (оба слова с ударением на последнем слоге) — чужая работа, работа на чужих, — так издавна называлась на иврите привязанность евреев к другим культурам. Это выражение я знал, но совершенно не сознавал, что разом подпаду под него в глазах Иланы и ее ведомства. Особые обстоятельства, беспримерная советская действительность — искупали, казалось мне, мою половинчатость, делали меня жертвой, достойной сочувствия или хоть понимания. Но для строевого сионизма все страны были одинаковы: Ново-Вавилонское царство, империя Селевкидов, Советский Союз… Илана записывала мои слова, притом не по-русски, а сразу на иврите. Я полагал, что она слушает меня с профессиональным недоверием, от которого поеживался; а дело шло дальше этого. Один раз она и прямо не поверила мне. Был в Ленинграде видный отказник по имени Аба Таратута, годами старше меня. В общих компаниях судьба меня с ним сводила, но я не считал, что мы знакомы; не помнил, чтобы мы хоть раз перемолвились двумя словами. Так я и сказал Илане. Она твердо возразила:
— По нашим сведениям, вы с Абой Таратутой знакомы.
Я повторил своё утверждение, увидел, что меня подозревают во лжи и обиделся не на шутку. Зачем было мне лгать? Какие схемы выстраивались в мозгу разведчицы Иланы? В тот день я искренне недоумевал; сейчас знаю ответ, простой, как дважды два: чужой — лжет по определению.
Легче было угадать, откуда у них «сведения», хотя и тут получалось что-то невероятное. Я вспомнил, что при выезде, в Пулкове, у меня нашли записную книжку, которую я прихватил по ошибке, вовсе не собираясь вывозить. Имелась другая записная книжка, предназначавшаяся на вывоз, заполненная настоящими зарубежными адресами и прозрачно зашифрованными адресами оставшихся в Ленинграде, в которых мне важнее всего были телефоны и почтовые индексы. Например, Зою Эзрохи я записал так:
|
Mrs. Z. Eazrokhy 14 Wishy-Washy St apt 32 Madison, Wisc. 97137 USA Tel. 100 234-0119 |
Здесь Wishy-Washy St — улица Всеволода Вишневского, пятизначный американский почтовый индекс 97137 стоит в качестве напоминания шестизначного советского 197137, а в телефоне — лишние первые три знака, 100. Леопольд Эпштейн шел под другим кодом:
|
Dr. L. Epstein 55/8 Frozen St apt. 31 Lincoln, Nebr. 346410, USA |
Читать следовало так: улица Фрунзе дом 55 корпус 8 квартира 31, Новочеркасск 346410 (первая цифра почтового индекса, 3, в английской версии была прозрачно зачеркнута).
Обе записных книжки советские ищейки при обыске в аэропорту взяли, скопировали и вернули. Думаю, специалисты из КГБ, если только у них руки дошли до такой мелкой сошки, как я, много потом потешались над моей английской книжкой; а в русской они могли прочесть на букву Т: Таратута 299-02-04. По этому номеру я ни разу не звонил; записал его со слов сына Абы во время случайной встречи у Финляндского вокзала. Выходило, что «сведения» пришли оттуда, с советской стороны; что тамошняя разведка обменивается информацией с тутошней. Никакого другого истолкования я вообразить не мог; не смог и потом. А вот о чем я не подумал, когда эта мысль забрезжила в моем сознанье: что если я прав, то ведь мои сегодняшние «сведения» преспокойно могут уйти туда. В это не верилось. Илана представлялась мне маленькой богиней, скроенной из одного куска, неземной и безупречной, к двойной игре неспособной.
Между Израилем и Советским Союзом не было дипломатических отношений; интересы Израиля представляло в СССР голландское посольство. Москва смотрела на Израиль волком; и было, отчего. В 1947 году Сталин поддержал в ООН идею образования Израиля в надежде превратить его в советскую республику, когортами посылал в Палестину верных сынов коммунистической партии из евреев — и что вышло? Москва никогда не могла простить Израилю измены: отсюда (хоть и не только, даже не в первую очередь отсюда) стойкая антиизраильская политика СССР… Помню, как она, эта политика, озадачила меня в 1967 году. До того озадачила, что на военных сборах под Оршей, где мы, студенты физ-меха, оказались после четвертого курса, я, весь в хаки и руки по швам, решился открыто спросить на политинформации, почему в арабо-израильском конфликте СССР взял сторону арабов. Майор Пронин дико рассвирепел от моего вопроса, сперва нес что-то бессвязное, а потом сказал дело:
— Если дай бог будет война, наши танки через четыре дня будут на берегах Атлантики!
Теперь, перед лазерной Иланой, я с изумлением видел: даже неприязненные отношения между странами — не препятствие к сотрудничеству их разведок. Видел и не понимал, как такое возможно. Позже догадался: советские диссиденты-евреи в одинаковой мере враждебны Кремлю и Сиону. Сами диссиденты могли при этом думать что угодно; одни боролись за чистоту марксизма или социализм с человеческим лицом, другие — за православие, самодержавие, народность, третьи — за права человека, понимая (вот чудаки!) под человеком и еврея, — но двум большим идеологиям, сионизму и коммунизму, они в совершенной одинаковой мере были невыносимы. Идеология ставит барьер течению мысли, понимает мысль как грязь, измену, холуйство. Человек, верный знамени, смотрит в глухую стену и видит необозримый горизонт с восходящим солнцем. Я понял это, когда в израильских газетах появилась прямая клевета на Зеличонка и других достойнейших сионистов из ленинградских отказников. Тот факт, что они не отворачивались от правозащитников, истолковывался как нежелание ехать в Израиль и чуть ли не как предательство.
Не менее трех раз я бывал в этом домике на улице генерала Мендлера 25. Яша Кедми, годом моложе меня, сделавший изрядную карьеру в израильской администрации, говорил со мною в том же ключе и тоне, что Илана: как с чужим; разве только чуть мягче. Он, как уже сказано, умудрился получить визу в 1969 году, и не в Литве или Грузии, а в Москве; можно допустить, как раз потому его и отпустили, что был он сионистом беспримесным, ни в чем русском и общечеловеческом не замеченным.
От Кедми я узнал, что между 1974 и 1977 годом, когда мы с Таней получили первый вызов, нам было послано двадцать вызовов. Двадцать! Отчего они не доходили?..
Через мисрад а-хуц и Кедми получил я фотокопию многостраничной Рептильной лиры, чернового машинописного свода моих стихов и набросков с 1958 года, сокровища, ни для кого на свете, кроме меня, ломаного гроша не стоившего, а для меня превосходившего любую Голконду (оригинал этого списка тоже был получен — через голландское посольство, что ничуть не умаляло значения копии). Отснял мою бессмертную белиберду в Ленинграде Сеня Фрумкин, талантливый инженер, один из составителей ЛЕА (машинописного Ленинградского еврейского альманаха); мне так и не представилось случая отблагодарить его; отснял — обычным фотоаппаратом; сколько труда положил! На Мендлера 25 мои стихотворные опусы пришли в виде непроявленной пленки, там их проявили и отпечатали, сэкономив мне деньги, превосходившие месячную выдачу на семью; наверное, и прочли что-то или хоть заглянули в текст, да отмахнулись, как от грязи. Получил я сокровище из рук пожилого человека, Якова (Самуиловича) Голана, говорившего со мною совсем не так, как Гуревич и Кедми, а как раз сочувственно, с пониманием, — или мне это почудилось? О себе этот джентльмен рассказал невероятное. Честный сионист из социалистов, он отсидел свое в сталинских лагерях, уж не знаю, за социализм или сионизм, уцелел, вышел, через подпольные сионистские круги получил — в сталинском СССР! — польский паспорт, дававший возможность выехать сперва в Польшу, а затем, при содействии тамошних сионистов, и в Израиль — или даже еще в Палестину. И вот он со своим фальшивым паспортом оказывается в аэропорту, благополучно проходит паспортный контроль, подходит к трапу самолета — и тут человек в форме его от трапа рукою отстраняет… Всё! — думает несчастный: — опять лагеря, теперь — на всю жизнь, и смерть на чужбине… Однако ж Бог милостив. Оказалось, что советский цербер всего лишь галантность проявил за счет беженца: просил его посторониться и пропустить вперед старушку. За старушкой беженец с фальшивым паспортом вошел в самолет, долетел до Польши, оттуда благополучно добрался на родину. Был он типичный интеллигент старой израильской формации: не в советском смысле интеллигент, не специалист с высшим образованием, а человек много думавший и много натерпевшийся, очень выдержанный, философски настроенный. По-русски говорил уже не твердо.
— Мы тут развили пленку и напечатали ваши стихи, — сказал он мне. Я от неожиданности переспросил. Он понял, в чем дело; объяснил мне, что ивритский глагол липатэах (развивать) калькирует английское to develop, to process, означающий, среди прочего, проявлять пленку, — и спросил, как это будет по-русски.
Другой громадный том, машинописную антологию неподцензурной поэзии Острова, где я один — из составителей, четыреста с лишним страниц, тоже добросовестно отснятых Фрумкиным, в министерстве только развили (проявили), а печатать не стали: авода зара. Всё равно это была громадная помощь — и какое облегчение! Тексты начали возвращаться ко мне. Чего я стоил без текстов? Да и с текстами-то… но жить без них не мог.
Илана допрашивала меня несколько часов по всем правилам; время от времени повторяла вопрос, уже заданный ранее, но уличить меня в непоследовательности не смогла. Я получил разрешение позвонить в Ленинград, Мартынову и еще кому-то; ни до кого не дозвонился. К 17:30 за мной в мисрад а-хуц приехал Эдик Усоскин. Приехал с работы, и не в костюме и галстуке, а в шортах и босиком, так и вошел в министерство, никого, кроме меня, не изумив. Особенно я был поражен, когда он, сев за руль, преспокойно нажал на сцепление, а потом на газ — босыми ногами. Он привез меня в свою тель-авивскую квартиру, посадил за журнальный столик, уставленный бутылками с экзотическими именами, и мы два часа проговорили за выпивкой: о бедах ленинградских отказников, о тупости Запада и израильского истеблишмента, о необходимости бороться и побеждать, о методах борьбы. Несогласия между нами уже обнаружились и всё время накапливались. В Эдике меня поражало откровенное бахвальство. По его собственным словам он был, во-первых, инженер-физик высшего пилотажа, во-вторых, чемпион по борьбе за тех, кому плохо: за сидевших в отказе, за неприкаянных в Израиле. Как это ни странно, он не лгал. Первое оказалось абсолютной правдой; второе — правдой относительной. Специалист по дальней связи с первой формой секретности, Усоскин чудом вырвался из Ленинграда в 1978 году, сразу же нашел в Израиле работу, «вкалывал», по его словам, «по двенадцать часов в день», и при этом находил время для многосторонней деятельности в пользу отказников и репатриантов: звонил, писал, убеждал; не жалел и своих денег, что вообще редкость; звонки в ту пору обходились очень дорого. Может, он был из тех редких людей (вроде Николая Вавилова и Маргарет Тэтчер), кому хватает четырех часов сна в сутки. Может, квалификация его была столь высока, что работа не выжимала из него всех соков. Совершенно достоверно, что делал он для бедствовавших много; знаю об этом по себе. Но и от третьей правды, моей, деться было некуда: от невероятной бестактности Эдика, от его назойливого хвастовства и бряцания словами. Стиль его разговора и поведения казался мне неприемлемым, оскорбительным — в первую очередь потому, что даже говоря о других, он умудрялся постоянно говорить о себе, ставить себя в пример, восхищаться собою; отчасти же еще и потому, что он матерился (это как раз стало считаться хорошим тоном у советских интеллигентов), а я не выношу мата.
Тут же, за ликерами, за журнальным столиком, Усоскин предложил мне сделать несколько звонков в Ленинград — за его счет. Я решился не без некоторого колебания; помнил, сколько стоит минута… Дозвонился до Сени Боровинского. Только этот звонок и показался мне важным из нашей с Эдиком двухчасовой беседы. Какие-то сведения были получены от Сени о Зеличонке, Лившице, Мартынове и других. Я изо всех сил старался не злоупотребить оказанной мне любезностью, не затягивать разговора — Усоскин не понимал этого.
На своей машине Усоскин довез меня до центральной автобусной станции Тель-Авива. В девять вечера я был в Иерусалиме — и заблудился в незнакомом еще городе; добрался до дому только к десяти, совершенно раздавленный усталостью и впечатлениями.
Первым гостем с привычной для нас культурной речью и привычным набором имен оказалась в нашей пещере Рита Шкловская, филолог из пещеры 84/17. Она пришла знакомиться в пятницу, 22 июня 1984 года. Человек нашего поколения, Рита училась в Ленинграде, знала тот круг полуподпольных авторов, который стал в годы отказа нашим, держалась, как и большинство русских израильтян, левых взглядов в эстетике и правых в политике. Мы проговорили полдня. Жила она с мамой Еленой Абрамовной, которая — в это едва верилось — купила тут, в Иерусалиме, мой двухтомник Ходасевича; не пожалела отдать за него целых 8300 шекелей. Ура! Культура здесь, рядом, не вся растворилась в нашем вавилонском столпотворении.
На другой день, в субботу, Фаня и Алик Могилевские, друзья Риты, имевшие машину, жившие хоть и в Гило (426/4), но не в центре абсорбции, а в нормальной квартире, повезли ее и нас на экскурсию в окрестности Иерусалима: к знаменитому холму Иродион (он же Геродион; первое прочтение — византийское, рейхлиновское, мы именно так произносили; второе — по Эразму, ближе к аттическому), к развалинам дворца и крепости Ирода Великого. На минуту этот холм заслонил все наши потрясения последних дней. С его вершины, со стометровой высоты мы увидели не только грозную и прекрасную Иудейскую пустыню: мы увидели ошеломляющее прошлое этой земли. Казалось, кто-то рукой отстранил две тысячи лет человеческой истории.
В шести километрах от Иродиона находился Бейт-Лехем, дом хлеба, он же евангельский Вифлеем, израильский арабский город, куда мы потом, до начала первой интифады, случалось, и пешком ходили из Гило. В тот день, в субботу 23 июня, дом хлеба оказался для нас домом некошерной колбасы. В арабской лавке мальчик лет четырнадцати отвесил нам, сколько мы просили, но сперва нарезал колбасу — и не ножом, как в России, а на специальной резательной машине. Тут задумаешься. За окном — библейский восток: грязноватые люди в длинных балахонах и головных накидках, верблюды под седлом, ослы, навьюченные корзинами с лепешками или овощами, в двух шагах пустыня, а в лавке, в бедной арабской лавке, — цивилизация: кондиционер и машина для резки колбасы, какой в Елисеевском нет. Машина с встроенным калькулятором, сама шекели подсчитывавшая.
В один из первых дней явилась к нам необычайно хорошенькая десятилетняя Аня Шипова из пещеры 88/14, ведя за руку сестренку Рути, а та вела за руку куклу. Спустя год сестренки являлись втроем: на месте куклы оказалась подросшая Номи. (Из сказанного уже видно, что нашу пещеру мы покинули нескоро.) Рути и Номи потом и одни частенько приходили, благо дверь всегда оставалась открытой, и всякий раз, тыкая в них пальцем, я спрашивал в притворном испуге:
— Ой, кто это?! — А девочки хором отвечали:
— Мы Рути и Номи!
Ане Шиповой предстояло на долгие годы сделаться ближайшей подругой нашей Лизы. Даже разлука не оборвала этой дружбы. В 1990-е годы они обменивались письмами объемом с порядочные тетрадки, без пропусков заполненные мелким почерком на иврите. Через Аню мы познакомились и с родителями девочек, бывшими москвичами Сашей и Машей. Саша Шипов, несколькими годами моложе меня, выпускник московского университета, математик, уже работавший в телефонной компании Тельрад, тоже, подобно Усоскину, отдавал всё свое свободное время борьбе за оставшихся в России, знакомых и незнакомых, — но какой контраст с Усоскиным он составлял! Какое наслаждение было говорить с ним! Ясный критический ум, веселость без примеси цинизма, отчетливость, цельность — и ни тени бестактности или самолюбования. В Шипова я буквально влюбился. Ни один человек в большей мере не олицетворял для меня молодой русский Израиль, чем он. Две вещи сразу подкупали в нем: чудесный юмор и общая культура, впитанная с молоком матери. Эта культура была такова, что я по временам чувствовал себя рядом с ним сиротой и беспризорником. Он всё на свете прочел; побывал в тех областях мысли, куда я не заглядывал. Его русский язык не уступал нашему, но при этом Саша еще свободно говорил по-английски, по-французски и на иврите.
Здесь, однако ж, самое время спросить себя, вполне ли бескорыстно было мое восхищение Шиповым. Или так: не было ли оно обусловлено. Понравился мне Шипов, допустим, сразу; не мог не понравиться; при любом раскладе это был обаятельнейший человек. Но, боюсь, по-настоящему разглядел я его и выделил не раньше, чем он принес мне мои стихи, пришедшие к нему через посредников из России.
— Получаю, — рассказывает Саша, — стихи от Ступникова — и вижу: уровень в них как-то заметно вырос. Тут я решил письмо прочесть и из письма понял, что стихи — не его, а твои.
Так минчанин Саша Ступников, еще сидевший в отказе, возник в моей жизни второй раз. Третий раз он появится в 1989 году, на Би-Би-Си. А Шипов немедленно подскочил у меня на сто пятьдесят пунктов: человек стихи понимает! Позже, при других обстоятельствах, он попросту отнял у меня возможность не восхищаться им: в связи с моими стихами высказался, притом в разговоре не со мною, а с приезжим литератором из Америки, что, мол, не только на Западе, а и у нас в Израиле есть настоящие русские поэты: вот хоть Колкер. Куда тут деваться?
История с подменой, с подмешиванием моих стихов в стихи другого автора, в похожем контексте и с не менее лестным для меня результатом, произошла еще раз — 12 лет спустя, в Лондоне. А. К., человек образованный и мыслящий, полиглот, прозаик и критик, читал одной умной женщине свои стихи, признания, в отличие от его прозы, не получившие. Слушательница (японистка, любившая скорее музыку, чем поэзию) кивала и улыбалась, но молчала, а после стихотворения, начинавшегося строкой «Когда я был молод, меня нищета привлекала» воскликнула:
— Как здорово!
Тут читавший помрачнел и сказал:
— Это — Колкер…
В Вифлееме, в арабской лавке, произошла совершенно неожиданная и несколько даже поразительная для меня встреча. Уж не знаю, как разговорились мы с другим русским, там оказавшимся, только он, этот русский, стал ко мне приглядываться, да и я почуял в нем знакомого. И что же? Это оказался Саша Винокуров, с которым в самом начале 1960-х я играл в волейбол в юношеских командах ленинградского Спартака! Он был двумя годами старше, играл в следующем по отношению к моему возрастном слое, точнее, не столько играл, сколько сидел на скамейке запасных, потому что ростом не вышел. Мы не дружили, знали друг друга в лицо и по имени. Спустя годы встретились опять, снова на волейбольной площадке: в спортивном зале Политехнического института; тогда и перемолвились несколькими словами — кажется, в первый и единственный раз до Вифлеема. Саша заканчивал механико-машиностроительный факультет; это на секунду позволило мне мысленно покрасоваться перед ним: я-то был студентом физ-меха; поднимай выше! Но отчетливо помню, что этот постыдный приступ длился ровно секунду и в словах не выразился; а дальше наш разговор принял другое направление: Саша сказал, что после окончания думает второе высшее образование получить, мореходное, с тем, чтобы за границей бывать. Его идея не показалась мне такой уж вздорной; у моряков ведь и деньги были другие, не инженерные. Я его выслушал уважительно, а про себя подумал: мне больших денег не нужно, лишь бы работа была интересная, с уравнениями. Ни на крохотную секунду, ни в Спартаке, ни в Политехническом не закралась мне в душу мысль, что Саша — еврей; фамилия-то русская! В детстве у нас почти нет национальности, она возникает эпизодически, редко, но с годами всё чаще. Тут, в Бейт-Лехеме, я понял: не случайно Саша в мореходку собирался, а с мыслью о бегстве из коммунистического рая; массовая эмиграция тогда еще не началась, прямого пути не было…
Времена фантастически накладывались одно на другое: Стремянная улица (зал Спартака находился в церкви, потом взорванной) — спортзал Политехнического — Иродион и Вифлеем. Головокружительное смешение кадров… Жил Саша Винокуров по соседству, в верхнем Гило (301/4), но в гости нас не пригласил, что выпадало из схемы (в ту раннюю пору, в первые дни, нас звали все, буквально на части рвали все встречные и поперечные); работал в израильском отделении знаменитой фирмы Intel, но помочь мне в трудоустройстве не вызвался. Может, я его обидел чем-то?
Саша Шипов, Саша Ступников, Алик (Александр) Могилевский, Саша Винокуров — как странно, что имя древнего полководца получило такое распространение в России, а теперь вот и в Израиле; как мало оно подходит большинству его носителей, как сильно отделилось от самого знаменитого, от македонца. Герцен умилялся тому, что Александром зовут его кучера… Впрочем, в Израиль это имя пришло своим путем — и много раньше, чем в Россию; задолго до появления России. Есть легенда, что Александр Великий, прихватив Иудею, потребовал от евреев воздвигнуть ему статую, а те будто бы исхитрились, сказали: изображать — нам Бог не велит, но мы воздвигнем тебе памятник небывалый, нерукотворный, много более величественный, чем любая статуя; мы каждого четвертого младенца мужского пола будем нарекать Александром в твою честь; и будто бы полководец согласился… Иудею, к слову сказать, Александр именно прихватил, прошел рядом, по касательной; специально завоевывать эту крохотную страну ему не пришлось. Он едва заметил ее, а Геродот и вовсе не заметил; отец истории и в Вавилоне евреев проглядел — как раз там и тогда, где и когда создавался иудаизм, которому, через его два дочерних предприятия, христианство и мусульманство, предстояло так разительно изменить Элладу и весь мир.
Дни для нас бежали за днями, народная тропа к нам в Гило не зарастала. В пятницу 6 июля приехали знакомиться Леонид Иоффе, поэт, и Марк Зайчик, прозаик. Первый похвалил моего Ходасевича. Про второго я уже слышал: этот Зайчик отличался невероятной физической силой. На первый взгляд был он невысок, но лишь потому, что и в ширину, и в толщину был велик. Моя рука в его руке просто утонула. Он был из тех, кто ударом кулака корабельную палубу проламывает.
В тот же день, несмотря на канун субботы, я умудрился еще три визита сделать, притом дальних: в Тель-Авиве. Первый визит был к старухе Лии Колкер, в дом престарелых в Рамат-Эфале, почти в Рамат-Гане. На ее адрес в течение некоторого времени, до переадресации в Гило, шли из Ленинграда письма наших друзей, по почте и с оказиями. Среди этих писем были и важные. Звоню я ей как-то, а она сообщает торжественно:
— Получила отброски!
Нечаянная, но многозначительная метафора! Это означало: пришли мои наброски, незаконченные стихотворения, перепечатанные в строку на двух сторонах тонких листов бумаги.
От Лии я поехал в Общественный совет солидарности с евреями СССР, к Эфраиму Бауху, прозаику, как раз выпустившему второй номер альманаха Кинор с моими стихами. Стихи попали к нему еще из России, журнал вышел чуть ли не в день моего приземления. Я об этой публикации узнал в Израиле. Родом из Бендер, Баух был членом союза писателей Молдавии (под именем Ефрема Бауха), в Израиль приехал в 1977 году, иврит выучил основательно; может, и с детства знал. На минуту я очень ему позавидовал, особенно, когда заглянул в подаренную мне книгу его прозы Камень Мория: ясная судьба, незамутненное сознание; не то что я… Альманах Кинор он выпускал на общественные деньги, редактировал и составлял его на пару с Милой Ш., которая тоже оказалась там, в этом Совете, и, помню, смотрела на Бауха влюбленными глазами. Чтобы я поскорее добрался к нему, Баух велел мне такси взять за счет конторы. Трясущимися руками я заплатил водителю 500 шекелей, тотчас мне возмещенные. В конторе, помимо книг и журналов, Баух выдал мне на порядочную сумму конвертов и марок — для переписки с Россией. (Удивительной особенностью израильских почтовых отделений почты было то, что там не продавали конвертов.)
Третий визит в Тель-Авиве был на улицу Моше Шарета 7, к Соне Эйдельберг, пожилой даме, родственнице ленинградского авангардиста Эдуарда Шнейдермана. Две тысячи рублей, в основном — от продажи книг, оставленные в Ленинграде, обернулись через Соню в 500 долларов, более чем удвоив наши валютные сбережения.
Литературный кружок Кушнера при фабрике Большевичка тоже напомнил о себе в самые первые дни нашей жизни в Гило: откуда ни возьмись, приехал Иосиф Гиршгорн, на Большевичке появлявшийся считанное число раз и мною прочно забытый. Что он в Израиле, я понятия не имел. Многие из набегавших гостей (говорю о тех, кто уже так или иначе устроился) не просто звали в гости, а говорили: «садись в машину, поехали к нам прямо сейчас». К Гиршгорну мы с Таней и Лизой съездили; уступили от неожиданности. Оказалось, он женат на местной (на сабре) по имени Авива (весна), по-русски не понимавшей. Жили они во времянке, на окраине Иерусалима, в районе Ир-Ганим, улица Авивит 3/1, а нам почудилось: на поселениях; стало быть (решили мы), люди идейные, сионисты. Детей не было, зато были две громадные мохнатые собаки. С ними связан для меня урок иврита, который я запомнил на всю жизнь. Едва мы высадились и были представлены его жене, как Иосиф спросил ее:
— Авива, клавим ахлу? (Авива, собаки ели?)
Позже я вспомнил стихи Гиршгорна из многотиражки Работница, издававшейся при Большевичке:
|
Дождь льет свою воду на провода, На колпаки фонарей. С медленным звоном стекает вода В лужицу у дверей… |
Другой век… декабрь 1972 года, за двенадцать с половиной лет до нашего Иерусалима.
Наезжали и зарубежные гости, из числа еврейских активистов, навещавших нас в Ленинграде. Эти добрые люди не всегда ехали в Израиль исключительно по делу, иногда и просто отдыхать. Они возили нас в рестораны, приглашали к себе в гостиницы, развлекали. Во всём этом присутствовала бестактность, гостям совершенно непонятная: мы, без денег и работы, не устроенные, не прижившиеся, — ни в чем не чувствовали себя ровней этим приезжим; принимали их благодеяния как бедные родственники, униженные тем, что облагодетельствованы. Мы терпели визитеров из вежливости и благодарности: плакать хотели от обиды за попусту истраченное драгоценное время, которого катастрофически не хватало. Нужно было обживаться, учить иврит (ходить на курсы, в ульпан), искать работу, бороться за оставшихся в СССР отказников и заключенных, заниматься литературными делами, — всё сразу. Никак нельзя было развлекаться. Отдых не входил в мою дневную программу, не предусматривался ею. Мы уступали гостям, не желая обидеть добрых людей, принимали это как неизбежную повинность, а еще потому уступали, что хотели хоть одним глазком взглянуть на всю эту недоступную роскошь: рестораны, гостиницы. В воскресенье 24 июня, на пятый день нашей жизни в Иерусалиме, британка Lea Goodman привезла нас к себе в гостиницу King Solomon Sharaton — загорать и купаться в открытом бассейне, устроенном на крыше гостиницы, с видом на знаменитую мельницу Монтефьоре… Спасибо ей. Никогда не забудем. Но загорали мы через силу; чувствовали себя пришибленными, светскую беседу поддерживали, превозмогая отчаянье. Купалась из нас одна Лиза.
Совсем иной смысл имели приглашения от русскоязычных израильтян. Тут было больше взаимопонимания, общие темы, иногда и общие знакомые. Тут мы учились, перенимали опыт, а в обществе симпатичных людей — еще и радовались жизни, радовались общению. Канадские геологи Юра и Аня Гольдберги сообщили о нас своим друзьям в Хайфе, Мише и Иде Лифшицам. Те приехали в пятницу 29 июня и забрали нас к себе на выходные. Устоять было невозможно: так они нам понравились. Тесной дружбы не получилось только потому, что дорога между Иерусалимом и Хайфой неблизкая. От них я выучил слово хатуль (кот). С их квартирой связано одно из самых ярких впечатлений первых дней; мы входим и видим: на плиточном (нам казалось: мраморном) полу их гостиной сидит их сын Юлик в майке и шортах — и разбирает автомат… В Хайфе, 30 июня, мы первый раз купались в Средиземном море. Нужно ли говорить, что это было больше, чем купанье? На горизонте мне мерещились финикийские паруса.
Один раз входит в нашу пещеру человек с чемоданом и наушниками, представляется невнятно — и начинает чемодан открывать. Оказалось, пришел брать у меня интервью для местного русского радио Коль-Исраэль журналист Ефим Гаммер, он же прозаик, поэт, живописец и боксер, мастер спорта по боксу. Чемодан размером с порядочную бомбу замедленного действия был кассетным магнитофоном.
Радио зарубежное тоже появлялось — в лице Али Федосеевой из Мюнхена, со Свободы (она, естественно, приезжала в Израиль не только ко мне, а вообще для сбора материала; мы договорились о серии репортажей). Я уже выступал на ее волнах, рассказывал по телефону о Мартынове, Зеличонке и Володе Лифшице: о тех, кому в Ленинграде приходилось особенно плохо. Алю сопровождала в нашу пещеру звукооператор Ариадна Николаева и, по стечению обстоятельств, Наталья Рубинштейн, пушкинистка и филолог, некогда работавшая в музее Пушкина на Мойке, а потом, после Израиля, — на русской службе Би-Би-Си. В 1984 году она еще была в Израиле, редактировала журнал Народ и земля, из числа издательских эфемерид, которые исчезали чаще, чем возникали. Мы с нею друг другу не понравились.
Особняком шли гости из числа ловцов душ: религиозные евреи, звавшие немедленно записываться в ешивы, семинары по изучению Пятикнижия. Такие семинары давали скромный, но твердый доход; примерно столько же, сколько наше пособие, однако ж не на 5-6 месяцев, как оно, а без срока, до конца жизни. Ловцы душ твердили: единственное, что должен делать еврей, — учить Тору. Работать не надо; этого Бог от еврея не требует (слово Бог полагалось писать с пропуском гласной: Б-г). Я отговаривался тем, что плохо знаю иврит. «Не важно! — с пылом возражали мне: — Важен факт учебы. Глуп ты или умен, много знаешь или мало, — всё это пустяки. Главное, чтоб ты был евреем и учил Тору…» В январе 1985 года, из любопытства и от отчаянья (работы всё не было) я один раз сходил в такое заведение. Мужики всех возрастов, разбитые на пары, сидели друг против друга и читали, а затем толковали, обсуждали друг с другом недельный кусок священной истории; наставник ходил между рядами и присоединялся то к той, то к другой паре. В комнате стоял неумолчный гул голосов, вещь для меня невыносимая, я могу соображать только в тишине… Нет, решил я; лучше нищета, лучше голод, чем этот коллективизм, замешанный на сумасшествии…
Типичный религиозный еврей из страны победившего социализма был перевертыш, обращенец. В СССР это был либо интеллигент, так или иначе состоявший при русской культуре (авода зара!), либо прямо комсомолец или коммунист, служивший светлому будущему всего человечества. Второй тип особенно характерен. Люди меняли одну идеологию на другую, как меняют рубашку; лишь бы голым не остаться, лишь бы не думать. Для таких вчерашняя правда сегодня оказалась ложью, а ложь — правдой. Третий тип составляли бывшие православные, вчера истово осенявшиеся крестным знамением, сегодня отпустившие пейсы. Все три типа одинаково боялись свободы, сторонились критической мысли… Не всех схема сожрала полностью. Встречались среди них люди светлые, не вовсе пустые и не слишком навязчивые. Гриша Патлас (из интеллигентов) как-то вывел меня субботним вечером (в пятницу после первой звезды) на холм в верхнем Гило, указал на притихший внизу город и произнес с душевным подъемом:
— Вот праздник, который всегда с тобой!
Вид, и в самом деле, завораживал. Если нужен городской ландшафт, противоположный ленинградскому, то это — ландшафт иерусалимский, с его крутыми холмами и провалами долин… хочется сказать: ущелий… Про Ленинград Этель-Лилиан Войнич, автор Овода, сказала: «самый красивый город мира» (в чем явно погорячилась) и добавила: «ровный, как океан». Верно: ни холмов, ни небоскребов… Загадочная, кстати, женщина. Войнич приходилась родной дочерью алгебре Буля… то есть самому Джорджу Булю; через мужа основательно прикоснулась к польской и русской культуре, выучила языки, переводила; в Британии участвовала в революционных кружках, в последние годы жила в США, писала музыку, никем никогда не слышанную ораторию Вавилон (не иначе, как в библейском ключе, о Башне) — и не подозревала о масштабах своей популярности в СССР.
Своим «Вот праздник, который всегда с тобой» Гриша Патлас, понятно, возражал Хéмингвею. Еще бы не праздник! Однако никто из встреченных мною в Израиле не знал (и Войнич вряд ли знала), что это праздник создан в Вавилоне, в годы пленения, в VI веке до н.э. Именно там сложился иудаизм, там Иерусалим был возведен в его главный символ.
Исполняя библейскую заповедь плодитесь и размножайтесь, Гриша Патлас каждый год рожал со своею Ниной ребенка; жили они в бедности, но чувствовали себя счастливыми; праздник-то рядом; Гриша как раз учился в ешиве; и меня туда водил… Тут к месту один израильский анекдот. Религиозный еврей входит в автобус, а с ним шестеро детей мал мала меньше. В иерусалимских автобусах платишь при входе водителю («все наши водители в армии были танкистами», утверждала молва). Водители обычно разговорчивы, любят грубоватую шутку.
— Ты что, — говорит водитель многодетному отцу, отсчитывая сдачу, — не мог половину дома оставить?
— А я и оставил дома половину, — отвечает тот.
Двенадцать человек детей в религиозной еврейской семье — вещь совершенно обычная. Общий, мировой критерий говорит: рождаемость падает по мере подъема цивилизации и культуры (в качестве примеров приводят Китай, Индию, Африку). Приложим ли этот критерий к верующим евреям? Один из парадоксов иудаизма учит: у не-еврея виноградник (поле) плодоносит потому, что его возделывают; у еврея — потому, что он соблюдает заповеди.
Лучший тип религиозного еврея неплохо выражается понятием фарисейства. В нем собраны все нужные ингредиенты и обертоны: чуть-чуть ханжества, совсем капелька лицемерия, мало любви — и много ума, много знания, даже мудрость, только словно бы дурацкая. Но можно во всё это и поправку внести. Поправка такая: коллективный опыт многих поколений не стóит отметать даже тогда, когда не понимаешь его сути. «Так делали мои предки; буду делать и я; ниоткуда не следует, что я умнее всех их, вместе взятых», — вот она в самых общих чертах. А можно и так сказать: «Мы, евреи, несем некую весть; какую — этого, мне, маленькому человеку, знать не дано; мне не хватает ума или вдохновения. Что мы несем некую весть, сомневаться я не могу, — буду же поступать, как поступали до меня…» Презирать такого фарисея вовсе не обязательно. Я знаю людей абсолютно нерелигиозных, которые постятся в Йом-кипур.
Разумеется, в каждой религии есть люди пустые и бессовестные. Один из таких явился в нашу пещеру, когда меня дома не было.
— Я, — сказал он Тане, — собираю цдаку [пожертвования на благочестивые дела; подаяние нуждающимся; если совсем точно — деньги на ешивы]. Каждый еврей должен отдавать десятину. Сколько ты можешь дать?
Таня растерялась. Это было в самые первые дни. До этого — к нам только несли, притом щедро. Денег у нас не было совсем; месяц доживали именно за счет бескорыстной помощи окружающих. Мы, в сущности, сами жили на подаяние. Примерно это она и сказала черному (ультра-религиозные носят черные костюмы или лапсердаки и черные же широкополые шляпы; атеисты зовут их черными).
— Если нет денег, — сказал наглец, — дай что-нибудь из вещей. Вот этот нож, например.
И Таня отдала ему нож для резки хлеба, с волнистым лезвием. В Израиле таких в ту пору не продавали, мы к этому ножу привыкли, недаром он попал в число тех немногих предметов, которые мы вывезли из Ленинграда. «Вещи бедных — попросту — души», говорит Цветаева… Лишь годы спустя удалось нам восстановить потерю, купить такой же нож. И как раз за день до прихода черного человека я впервые увидел в лавке на улице Бен-Йегуды нож, правда, не хлебный, а для бифштексов, с пилкой и острым концом; увидел и спросил себя: скоро ли смогу купить такой?
Это стоит повторить: все, практически все помогали нам; урод нашелся только один: вот этот черный человек. От прочих мы видели только хорошее. Миша Хейфиц, ленинградец, отсидевший пять лет за неопубликованное предисловие к стихам Бродского, журналист, историк, писатель, обаятельнейший человек, но совсем не богатый, сам из недавних репатриантов, буквально заставил нас взять 10 тысяч шекелей.
— Отдадите тем, кто приедет после вас, — сказал он.
Феликс Кандель, прозаик и историк, один из авторов (под псевдонимом Камов) мультфильмов Ну, погоди! и Приключения кота Леопольда, явился со странными словами:
— Мне, — сказал он, глядя в сторону, — удалось получить для вас безвозмездную ссуду в 30 тысяч.
Безвозмездную ссуду! Лишь месяцы… да нет: лишь годы спустя мы осознали, что это он свои деньги привез. И привез вовремя: к концу месяца, к тому моменту, когда в доме и в кармане было пусто. Помнится, именно после его ухода Таня сказала:
— Ты подумай! Это в который уже раз так: когда нужно идти просить в долг, кто-нибудь обязательно сам придет — и выручит!
Медовый месяц с народом длился для нас месяцев пять, не меньше. Народная тропа не зарастала. Но к тому моменту, когда источник начал иссякать, у меня появились заработки, а с ними — и твердое чувство: погибнуть в этой стране не дадут. Оно не пропало до последнего моего дня в Израиле.
Банк а-Поалим… Банк рабочих. Красиво! Видишь времена освоения Палестины нищими, но полными энтузиазма и сплошь социалистически настроенными выходцами из черты оседлости. Вот они на черно-белых снимках: загорелые, сияющие, обнаженные до пояса, с лопатами в руках, а иные с лопатой и с винтовкой. Как они были счастливы в своей нищете, в своей мечте! Допускаю, что идея сегодняшнего банка, народного, открытого всем, выросла из кассы взаимопомощи тут, а не в Америке. Еще в начале XX века, до первой мировой, банки в Европе и за океаном мелкими вкладами брезговали. Идея могла утвердиться среди нищих героев, осваивавших Палестину.
Банк Леуми… Национальный банк. Тоже неплохо звучит. Тут другой строй мыслей, другая политическая ориентация, другая эпоха. Банк Клали (с ударением на последнем слоге)… Всеобщий банк; никого, значит, не отвергнет. Тоже приятно.
Наташа Маркова, однако ж, повела меня записываться в банк Игуд, Союзный банк Израиля. Его иерусалимское отделение находилось по адресу улица Яффо 34. Маленький банк, о котором слуху не было. Сама Наташа туда угодила за несколько лет до нас — и нас решила пристроить. Случилось это в понедельник, 25 июня 1984 года, на восьмой день, считая от нашего прибытия в страну; обрезание, так сказать. Потом, шесть лет спустя, этот родной банк и в самом деле некоторое обрезание нашим финансам сделал.
Народности в банке было предостаточно. В советском учреждении, особенно денежном, служащий, он же чиновник, был сущим Рамсесом на троне и одновременно сфинксом египетским. Здесь у служащих имелись имена — и (во что уж совершенно нельзя было поверить) у Наташи было имя: они знали ее в лицо и по имени! Наташа упивалась своей властью над ошарашенным мною: с каждым служащим болтала на иврите, по делу, а больше без дела: чтобы показать, как она навострилась говорить и до какой степени она здесь дома. Чрезмерной вежливостью, впрочем, служащие не отличались: их отзывчивость была чуть-чуть грубовата, как и должно быть между своими, между братьями и сестрами. Наташа торопила: «Моше, нельзя ли поскорее? Человек, можно сказать, с самолета! Посмотри, какой пришибленный!», а ей отвечали на иврите: «Подожди, Наташа! Что за спешка? Сама видишь, я занят…» В ту пору русскоговорящих сотрудников в израильских банках практически не было.
Счет в банке был необходим по двум причинам: нужно было поместить валюту, триста американский долларов (еще пятьсот, от Сони Эйдельберг, появились позже) и двадцать немецких марок. Не хранить же дома? Днем, когда дверь в нашу пещеру открыта настежь, не украдут. А ночью — как знать. Один раз заполночь Таня обнаружила арабчонка, прятавшегося в нашей лоджии, и с испугу спросила его по-английски: What are you doing here? Тот дал стрекоча. Во-вторых, нужен был и шекелевый счет — на тот случай, если у нас появятся лишние шекели.
Счет, точнее два, нам открыли; валюту мы поместили, а шекелей для банка еще не было. Из банка Наташа повлекла меня в больничную кассу (купат-холим) под красивым именем Меухедэт (Объединенная). Там тоже нас записали без проблем, то есть без платежей на ближайшие пять месяцев: льгота, спору нет, но и не без расчета задуманная; солдаты и влюбленные не болеют — а кто же мы в первые месяцы в Израиле, если разом не солдаты и не влюбленные?
Процедура получения стипендии была трехступенчатая. Вернувшись в Гило, я пошел к социальной работнице Шошане и от нее получил направление еще в один банк, не общий, а совершенно специальный, для новых репатриантов: в банк Идуд (Банк поощрения). Шошана своей бумажкой подтверждала перед банком, что я и моя семья — действительно обитаем в центре абсорбции, действительно новоприбывшие и действительно имеем право на поощрение в размере 24800 шекелей (118 долларов). Эта бюрократия казалась мне перестраховкой. При внимательном прочтении нашего единственного документа, удостоверения репатрианта, всё и так было ясно… но — вдруг мы уже не живем в пещерном центре? Через четыре дня, с бумагой от Шошаны, я опять поехал в город, бубня себе под нос: «Вот поеду в банк Идуд, там стипендию дадут». Стипендию дали: выписали чек, но вносить его в мой банк я не стал, сразу взял наличными в одном из больших банков на улице Яффо, потому что (как в том анекдоте про чукчей) очень есть хотелось.
В ту пору я не соображал, во что нам обходится жизнь и во что мы обходимся обществу; не было времени остановиться и сосредоточиться. Но ведь задуматься никогда не поздно? Или так: лучше поздно, чем никогда. Сейчас прикинем. Вот даты и суммы полученных нами выдач в дореформенных шекелях:
| 29 июня | 24800 | |
| 25 июля | 2082 | доплата |
| 6 августа | 30000 | |
| 5 сентября | 33000 | |
| 21 сентября | 16500 | доплата |
| 3 октября | 38000 | |
| 7 ноября | 50500 | |
| 29 ноября | 21900 | доплата |
| 31 декабря | 83300 |
Тут три прямых доплаты на инфляцию: от 25 июля, 5 сентября и 29 ноября. Чтобы прикинуть уровень инфляции, составим сводную таблицу:
| июль 1984 | 26882 |
| август 1984 | 30000 |
| сентябрь 1984 | 49500 |
| октябрь 1984 | 38000 |
| ноябрь 1984 | 50500 |
| декабрь 1984 | 72400 |
| январь 1985 | 83300 |
Почему в октябре стипендия упала? Бог весть! Загадка. Закрываем на нее глаза. Считаем, что каждый месяц нам платили по 118 долларов. Тогда в январе доллар стоил 651 шекель, а инфляция составляла примерно 305%, нам же говорили, что она 400% и даже целых 1000%. У страха глаза велики. Испугаться было от чего: автобусные билеты дорожали каждую неделю, продукты в лавке — и два раза в неделю. Если, однако, предположить, что надбавки, как это обычно бывает у бюрократов, не поспевали за инфляцией, то есть что исходная сумма $118 уменьшалась, то 400% очень даже может получиться… Берем, тем не менее, эту сумму за основу; пусть нам каждый месяц платили $118, а не меньше; выходит, что государству мы обошлись в $768 за полгода; деньги не разорительные. По Жванецкому, столько мы имели; а получили и истратили — больше раза в полтора. Тоже немного. Конечно, государство и (или) Сохнут брали на себя услуги по общежитию, свет, газ и электричество, муниципальный налог и нашу медицинскую страховку, но и при этом опустошения казны не видно.
Что шекель — вавилонский сикль, это я еще в Ленинграде усвоил. Что деньги и серебро передаются на иврите одним и тем же словом кесеф, тоже знал, но лишь в Иерусалиме сообразил, почему это так. На протяжении всей своей двухтысячелетней истории Вавилон не признавал других денег, кроме серебра, притом развесного. Сикль (слово, конечно, эллинизированное; правильнее шекель) был мерой веса, не монетой. Золото — никогда в Вавилоне за деньги не шло. Если мы теперь возьмем в рассуждение, что евреи, которых знает мир, — все сплошь потомки тех, кто был уведен в Вавилон; что именно они, паства Иезекииля, усвоили и разнесли по миру вавилонскую денежную культуру, идею банка в эмбрионе, то не покажется такой уж нелепицей производить немецкое Kasse не от латинского сарsа (футляр), как нам Фасмер объясняет, а от еврейского кесеф. Английское cash (наличные) — и подавно под подозрением. Всё раннее средневековье в Европе держалось на еврейском кредите, на вавилонском кассовом серебре. Еврей был ростовщик, процентщик, а что он, тем самым, типичный вавилонянин, а не собственно еврей, христианская Европа не догадывалась. До вавилонского пленения еврейские царства никаким специальным отношением к деньгам не отмечены; как и всюду, там деньги копили, а не ссужали… Через серебро Вавилон проник в новейшую историю; через серебро и его носителей. Константин Паустовский с умилением выписал из одесской газеты извещение о смерти какого-то биндюжника: «Рухнул дуб — Хаим-Вольф Серебряный, и безутешные ветки…» и т.п.
Так я мечтал в ту пору, на улицах Иерусалима. Не я один мечтал. Соприкосновение с ивритом многих вчерашних инженеров и биндюжников привело к занятиям домашней филологией. Насочиняли много вздора: что русское слово дорога — от ивритского дерех; гора — от гар; терем — от еврейского тэрем (на иврите: еще не; пред тем, как); колбаса — от коль басар (всё мясо). Не от кого-нибудь, а от Миши Хейфица я услышал как вещь несомненную, что прозвище великого князя Ивана Калиты — от еврейского слова клита (вбирание, впитывание). Мечтать не запретишь.
— Голда? Я хорошо знала Голду. Она была фашистка…
Согласитесь, тут есть от чего рот раскрыть. Тут непонятно, как возражать; и стоит ли возражать. Голда Меир считала себя социалисткой. Другие тоже признавали ее таковой: в последние два года жизни она возглавляла Социалистический интернационал. Ну, и передо мною сидела старая социалистка Лия Колкер, родом из Румынии, только другого толка. Не уважать старуху было нельзя: весь ее облик говорил, что за плечами у нее жизнь, полная борьбы и страданий. Уважать — тоже было затруднительно; что она несет!
Она знала всех: Ури-Цви Гринберга, Авраама Усышкина и чуть ли не самого Ахад-ха-Ама. Все они были фашисты!
Она приехала к нам в нашу пещеру абсорбции в субботу, 2 июля 1984 года, и не одна, а со своим сыном Амиром Колкером, в его машине; общественного транспорта по субботам не было (точнее, он был только в Хайфе). В самом первом письме ко мне, давнем, адресованном еще в Ленинград и приложенном к вызову, добрая женщина потому назвалась мамой, что я был почти ровесником ее сыновей-близнецов, Амира и Офера; оба родились 6 июля 1945 года, за восемь месяцев до меня. Всего у старухи было трое детей, и все поздние: напоминание о суровых временах, когда земля эта еще не текла молоком и медом. Все трое родились в Палестине, до возникновения Израиля. Старшей дочери, Алуфе, исполнилось 47, самой Лии было 77 лет. Она казалась именно дряхлой старухой; может, отчасти потому, что верхних зубов у нее совсем не осталось, а заменявшая их вставная челюсть слишком явственно шевелилась при разговоре. Фамилию Колкер старуха получила от мужа.
Что за имена такие?! Офер — словно бы отсылало к английскому offer (предложение), на иврите означало молодой олень, а если глубже копнуть, в средневековую поэзию заглянуть, то — любимый. Амир — я всю жизнь думал, что это мусульманский титул, принц; в другом прочтении — эмир. На иврите это слово двумя способами можно написать; в одном случае оно означает сноп (есть кибуц с таким именем), в другом — крона дерева. Оба написания приняты и бытуют как имена, однако мне всё лезло в голову арабское значение слова. Лия уже успела сообщить мне, что знает арабский язык, преподавала арабским детям языки. Может, отсюда взяла имя Амир? Хотела подчеркнуть, что она не расистка? Эта мысль была на устах у всех старых израильтян: мы — не расисты. Лия, по ее словам, знала 12 языков. Меня это потому удивило, что по-русски она говорила так, как если б это был ее основательно забытый родной язык… Может (мелькнуло у меня), она и на прочих одиннадцати говорит так же? Мы знаем, каков полиглот в России: это, как правило, всесторонне образованный человек. Лия производила совершенно другое впечатление: ни образованной, ни даже умной не казалась. Скажу больше: не казалась и доброй. Ко мне, пожалуй, была добра, а Таня ей слишком явно не понравилась, и, боюсь, именно тем, что — не еврейка. Лиза тоже словно бы не попадала в поле ее внимания. Говорить со старухой было невероятно тяжело: ни общих тем, ни взаимопонимания. У нее за плечами (твердил я себе) — все ужасы XX века, она чудом не попала в Освенцим, она прошла израильские войны; она подвижница… а верх брало другое: она — чужая. Мой однофамилец, ее покойный муж, пробавлялся живописью, но в ее рассказах тоже представал человеком бесконечно далеким.
Алуфу я потом тоже как-то видел. Она у нас побывала, заскочила ненадолго из любопытства. Типичная израильтянка: раскованная, чуть-чуть грубоватая, сильная. Ее имя, которое можно перевести как начальница, превосходно подходило к ней. Имена ее троих детей оказались лучезарны: сына звали Барак (молния), старшую дочь — Шахар (рассвет), младшую — Нóга (сияние)… Через год или два Алуфа оставила их сиротами: погибла в автомобильной катастрофе. Никогда не забуду своего ужаса — и того спокойствия, с которым Леа… она же Лия… мне об этом сообщила.
С какой легкостью евреи именуют друг друга фашистами! Не удивительно, что эту плодотворную мысль подхватили антисемиты всех мастей и сладострастно переадресовывают ее Израилю в целом; им есть на кого сослаться. Политические убийства случались в Палестине; в результате одного из них в 1933 году погиб человек с непроизносимой фамилией Арлозоров, в честь которого в Иерусалиме названа улица. Чего там не поделили эти социалисты разных мастей? Зачем нужно было убивать? Я не понимал, как ни вглядывался в потемки полувековой давности. И этих, передо мною сидевших, не понимал… Фашизм — ужасное слово, ужасное обвинение. Но фашизм — еще не нацизм. Следовало бы хорошенько разграничивать эти слова и понятия, чего в России не делают. Фашизм приглашает народ сплотиться под сенью мифа во имя сильного государства, в котором живут, а не болтают (не мыслят). Он гонит мыслителя, всегда разрушающего народный миф. Никакой расовой чистоты фашизм не подразумевает. Франсиско Франко, испанский диктатор, которого называют фашистом, спас тысячи евреев в годы нацистской экспансии. В любой стране оккупированной нацистами Европы любой еврей мог прийти в испанское посольство и на месте получить испанский паспорт — таково было личное распоряжение Франко. Этот факт более или менее известен (и понятен; говорят, Франко — из марранов, еврейских выкрестов). А вот что совсем забыто: Муссолини открыто осуждал антисемитизм в течение большей части своей карьеры. При ее начале, в 1920 году, в основанной им фашистской газете Il popolo d'Italia, он писал: «В Италии мы не делаем ни малейшего различия между евреем и не-евреем, ни в религии, ни в политике, ни в армии, ни в экономике… Здесь, в Италии, евреи обрели свой новый Сион — на нашей прекрасной земле, которую многие из них героически защищали, не щадя своей крови». В первое десятилетие фашизма в Италии видим еврейских генералов и еврейских членов Большого совета фашистской партии, не говоря уже о еврейских профессорах. Дуче называл расизм «немецкой болезнью». Гитлер в ответ говорил о кошерном фашизме Муссолини. Дуче, соберитесь с духом, поддерживал идею создания Израиля, помогал палестинским сионистам, основал кафедру в Иерусалимском университете. Будущий израильский флот готовился в рамках военно-морских учений итальянских фашистов. Тем временем соотношение сил между союзниками быстро менялось, Германия всё больше навязывала антисемитизм Италии, и после Стального пакта 1939 года Муссолини резко меняет свою политику…
А Израиль? Если освободить фашизм от расизма (что, как видим, вовсе не диковинка); если понимать фашизм как идею сильного государства под сенью объединительного народного мифа, то, деваться некуда, можно, хоть и с оговорками, эту страну подвести под проклятое словечко; но тогда, конечно, и Россия окажется с Израилем плечом к плечу — или, точнее, далеко впереди, потому что ей-то, ее существованию, ничто извне не угрожает. Италия Гарибальди; Германия Бисмарка, Франция эпохи великой революции, вообще многие страны, охваченные национальным подъемом и созиданием — тоже окажутся с фашистским душком… Говоря об израильском фашизме, антисемиты путают термины: они на деле нацизм имеют в виду, и тем самым выдают себя с головой — как антисемитов и завистников. Антисемит не может простить евреям Библии; только и всего. Нацизма в Израиле нет.
…С Лией мы говорили по-русски, Амир ни слова на этом языке не понимал. Что видели и чувствовали эти двое, сидя за крохотным столом в моей пещере абсорбции? В каком свете я им рисовался? Нужно полагать, в самом невыгодном. Жалкий человек с жалкими интеллектуальными поползновениями. Горя не хлебнул, реальной жизни не знает, за нашу независимость крови не пролил и, судя по всему, не готов пролить. С последним, скажи они это прямо, я бы тогда непременно поспорил. Моя благодарность Израилю носила характер чуть-чуть истерический, жертвенный; сражаться и погибнуть за такую страну я был готов… жить в ней, раствориться в ней — это казалось делом более трудным… Я смотрел на себя в это время глазами моих гостей-однофамильцев и видел преимущественно мою никчемность на этой земле.
Амир, добрый человек, на прощание позвал нас в гости, дал свой адрес: улица Яэль, дом 9, Тель-Авив. Яэль — тоже имя и значащее слово; можно перевести, как красавица. Должно быть, жила такая героиня, жила и погибла за эту землю… но как связать мою жизнь с ее памятью?
— Ева, ты посмотри: он читает! — воздел брови Миша Лицин, сунувший мне толстый учебник иврита перед дверью ульпана (языковые курсов). Миша был джентльмен лет под шестьдесят, мой новый одноклассник. Он, его жена Ева (на иврите — Хава) и их дочка Таня приехали несколько раньше нас и чуть ли не из города А, из Черновцов. Таня уже работала; старшие ходили в ульпан и испытывали там большие трудности. На своих роскошных седых кудрях Миша всегда носил кепку (уступка религиозному требованию покрывать голову), был чуть-чуть простоват без хамства, очень дружелюбен, с неизменной живой заинтересованностью и юмором во взгляде. Увидев, что я немножко знаю иврит, проникся ко мне уважением, словно бы старшего во мне признал; потом не раз обращался за советами, чудак. В своих Черновцах он был ученым человеком, доцентом.
Занятия ивритом начались для меня 30 июня 1984 года (для Лизы — с первого дня, с улицы и новых знакомых; для Тани — с середины июля, из-за нездоровья она пошла в ульпан позже). Учительницу в ульпане звали Михаль. Худощавая, тонкая, строгая, Михаль первым делом спросила меня, знаю ли я алфавит, и я без запинки оттараторил все 22 библейских буквы. Увы! Что мне не бывать первым учеником, выяснилось очень скоро, занятию этак к третьему. Всего в классе насчитывалось человек двадцать, из самых разных мест; состав то и дело менялся. Люди из нормальных стран, без комплексов, язык усваивали легко, не то что мы с нашим советским багажом. Помещался ульпан тут же, в нашем муравейнике. Класс представлял собою одну из пещер центра абсорбции, неотличимую от нашей. В гостиной-она-же-кухня, на стене напротив входа, висела школьная доска с мелом и губкой. Вдоль стен стояли специальные стулья с подлокотниками, служившие партами. Доска парты, предназначенная для тетрадки и учебника, крепилась на левом подлокотнике. Будучи отогнута вертикально, она позволяла сесть на стул. После этого, при условии, что живот не мешает, доске можно было придать горизонтальное положение и использовать ее как крохотный, очень неудобный стол… Остроумно и дешево! Я потом и в университете такие парты видел.
Я уже уразумел, что Израиль — страна дешевых решений. Это логически вытекало из его (ее) истории с географией; из русской пословицы голь на выдумки хитра. Моисей, по еврейскому анекдоту, потому сорок лет водил свой народ в пустыне, что искал единственное на всем Переднем Востоке место, где нефти нет. В тучной земле разве явится на свет Иеремия?.. Весь район Гило был застроен недорогими трех-, четырех- и пятиэтажными домами, облицованными светло-кремовым иерусалимским камнем, — не привычными европейскими, а явственно вобравшими в себя Восток; выполненными в одном стиле, но не повторявшими друг друга, не без некоторой выдумки, с разнообразными балконами, галереями, аркадами. Молва говорила, что на каком-то мировом конкурсе дешевой застройки этот проект будто бы первое место завоевал. Квартиры в домах преобладали трехкомнатные, с крашеными стенами и плиточным полом, с невысокими потолками, тесноватые. Я хорошо разглядел их в гостях у наших новых знакомых из числа уже вставших на ноги: у Могилевских, Зусманов и других, а больше всего — у Саши Шипова. Он как раз переезжал из пещеры 84/23 центра абсорбции на улицу а-Гафен в верхнем Гило (квартира 9, блок 227; нумерация в Гило была сквозная, не по улицам, а по всему району), а я помогал перевозить мебель и пожитки. Пока квартира была пуста, ею нельзя было не любоваться (ею — и видом на пустыню и арабскую деревню из окна, смотревшего на юг); но уже полузаполненная, она казалась маленькой для семьи в пять человек… Шипов, к слову сказать, в ней не остался. Подвернулась возможность дешево, за 43 тысячи долларов, купить четырехкомнатную квартиру в только что заложенном районе под названием Пизгат-Зеев (на севере Иерусалима, на территориях), где и нам потом предстояло жить. Едва перевозка вещей на улицу а-Гафен закончилась, как потребовалось перевозить их обратно. Я присутствовал при разговоре Шипова с начальником центра абсорбции. Шипов объяснял ситуацию, просил начальника пустить его, Шипова с семьей, назад на несколько месяцев; начальник упирался. Разговор шел на иврите. Я с трудом улавливал общий смысл. Саша сломил сопротивления начальника шуткой; сказал, что, мол, у нас говорят: «Два переезда — один пожар». Откуда он взял эту пословицу? Я ее слышал впервые.
Перетаскивание мебели шло в центре абсорбции беспрерывно: то кто-то получил багаж из России, то кто-то купил кровать или продал сервант. Рабочая сила была под рукой: односельчанам не откажешь. Я, во всяком случае, откликался всегда — и через год или полтора сильно повредил себе спину, помогая затаскивать в одну из пещер пианино. Иной раз что-то отдавали бесплатно. Знакомая Риты Шкловской по имени Хагит (в переводе: праздничек) предложила нам даром свой старый шкаф, а жила она у чорта на куличках, на улице Шломо-бен-Йосеф в районе Тальпиот-Мизрах. Никогда бы нам этого шкафа не видать, если б не помощь знакомых автомобилистов.
Одно из дешевых и чисто израильских решений сейчас стало рутиной во всем мире, а в ту пору изумляло. При тамошней жаре траву нужно поливать ежедневно. Вся трава, каждый ее клочок — поддерживается искусственно. Вручную поливать немыслимо; не хватит рук и денег, даже при дешевом израильском труде. Что делать? Придумали брызгалку, вертящуюся под напором той самой воды, которая к этой брызгалке поступает. Ошеломляюще просто, и как остроумно!
У меня иврит продвигался плохо, у Тани — и того хуже. Беспокойная, многоплановая и нервная жизнь, полная неопределенность в будущем — учебе не способствовали. Мы почти всё время были на людях. Досуга не случалось. На подготовку к урокам не хватало времени. Начать говорить мешала дикая застенчивость, понятная только тому, кто дорожит правильностью речи, вынесенной из моноязычной среды. Выходцы с окраин империи, из Прибалтики, Львова, с Кавказа опережали рафинированных интеллигентов из столиц. Об иностранцах с Запада и говорить нечего: многоязычье для них было естественным состоянием. Перегруженность специальными знаниями тоже скорее мешала в освоении нового языка. Эфиопы по этой части легко опережали белых. Откуда в Израиле эфиопы? Из древности; из эпохи царя Соломона и царицы Савской; приехали недавно, а иудаизм приняли в незапамятные времена, когда еще и христианства не было. Цветом кожи они, казалось бы, наглядно возражали тем, кто упрекает израильтян в расизме. Занятно, что у иных эфиопов я сам видел вытатуированный и не полностью выведенный крест на теле, а то и на лбу: то есть они уже и христианами успели побывать, но всё-таки не отвергались этой землей и этим народом. А йеменцы? Там, в Йемене, в Теймане (помните фамилию шахматиста: Тайманов? вот она откуда) иудаизм какое-то время был государственной религией… он вообще шел красной нитью вдоль торгового пути через Хиджас в Индию — совершенно как на севере, вдоль пути из варяг в греки. Вдоль аравийского пути сложился ислам; Магомет сперва себя еврейским пророком воображал; вдоль пути из варяг в греки возникла Русь…
Один раз и к нам в пещеру пришел эфиоп в кипе, представлявший какое-то общество или движение.
— What language do you prefer? — спросил он меня. То есть он готов был со мною говорить и на иврите, и по-английски… а может, и по-французски? Задним числом отвечаю ему: Russian, please. Остроумие на лестнице. А тогда я от неожиданности глаза вытаращил — как тот пьянчужка из советского анекдота, изумлявшийся на негра: «Обезьян, а разговариваить!»
С Таней тоже была смешная история. Она с Лизой шла по улице Яффо на рынок Махане-Егуда в центре Иерусалима. Подходит человек и говорит что-то. Таня, не вслушиваясь, выдает заученную фразу:
— Слиха́, ани́ ло медабе́рет иврит маспи́к. (Виновата, я недостаточно говорю на иврите.)
Человек отстает, а Лиза смотрит на мать с нескрываемым изумлением и сообщает ей:
— Мама, да ведь он спросил тебя: Do you speak English?
Незачем говорить, что невыученный иврит день за днем вытеснял из наших бедных голов плохо выученный английский.
Из ульпана я вынес, в сущности, не столько иврит, сколько образ нашей учительницы Михали. Вот уж кто, казалось мне, представлял свою страну. Сабра (местная уроженка), стройная, лет 35-ти, суровая и чуть грубоватая, невероятно свободная, с никотиновым лицом, она соединяла в себе Восток и Запад. Мне казалось, Востока в ней больше, чем Запада. Сужу об этом вот по чему: я был поражен, узнав, что ее фамилия — Вайнштейн. Я чуял, что у Михали за плечами нешуточные испытания — как почти у всех настоящих израильтян, для которых длящаяся десятилетиями война — рутина. Мне очень хотелось познакомиться с нею ближе. Я позвал ее в гости (было это в ее фиате, она вызвалась подбросить меня до почты); она ответила (на иврите) почти невежливо:
— А на каком языке мы будем разговаривать?
Я к этому времени уже пять месяцев занимался ивритом, точнее, ходил в ульпан. Неправедная обида на то, что иврит мне не дается, застыла у меня на физиономии, как маска. Я попросил Михаль остановить машину и вылез — в бешенстве и чуть ли не в слезах.
Макс Вебер в своих штудиях о протестантстве и капитализме говорит в пользу гастербайтерства: «Можно считать установленным, что самый факт переезда на работу в другое место является одним из наиболее мощных средств повышения производительности труда…»
Переведем это замечательное наблюдение в другую область, биологически не менее важную. В новой обстановке человек наэлектризован на любовь в гораздо большей степени, чем в привычной. Оттого-то так много браков распадается в эмиграции. Новая среда сулит небывалые радости, по силе не уступающие самым ранним, детским и юношеским. Перед человеком — величайшее искушение: вернуть молодость, и не как-нибудь, а во всеоружии опыта. (Говоря: человек, я, не подумайте дурного, и женщину тоже имею в виду, хоть злые языки и утверждают, что она — друг человека.) Молодость уже и возвращена — тем простым фактом, что ты в новой обстановке неопытен, как юноша, как ребенок. Если человек при этом не стар и не лишен творческого инстинкта, нужны очень сильные защитные средства. Опасность подстерегает на каждом шагу.
Что было моим щитом? Потребность в устоях, тяга к цельности, пропущенная через русское слово. Чувство, родственное религиозному. «На время — не стоит труда». Священное писание русского интеллигента помогало тем, что его меристема проходила через мое сердце: я сочинял. Были стихи, написанные кровью (неважно, удачные или нет). И были слова, произнесенные всерьез, предположительно — навсегда (когда произносились, верилось, что навсегда). Была потребность оставаться последовательным во всем, в том числе и в любви. Я точно знал, что жить — ни с одной женщиной не смогу, что Таня стала частью меня самого. Но внутренний мир было непросто, даже мучительно согласовывать с внешним. Ужас моего положения удесятерялся тем, что я, в свои 38 лет, женщинам нравился. Особенно — пока был нов, был оттуда. Новый человек в устоявшейся среде не только несет дополнительный заряд любовного электричества, но и невольно индуцирует его у окружающих. Новый человек, по силе воздействия, не то же самое, что новая среда, но всё же катализатор. А израильские женщины, не мне вам говорить, сударыня, вообще очень свободны и раскованы, ханжеству не подвержены. Для большинства из них половая близость — отнюдь не космический акт, не «дивный сплав миров, где часть души вселенской рыдает, исходя гармонией светил», а дело житейское. Большинство относится к этому просто, очень современно (из чего было бы опрометчивостью заключить, как делают иные российские завистники, что среди израильской молодежи и в израильской армии царит разврат). Израиль — страна, где все — братья и сестры, а при этом инцеста — нет. Конечно, русский интеллигент из сочинителей мог бы вспомнить, что у Александра Блока только влюбленный достоин имени человека. Это как раз возражение Лермонтову, оно читается так: на время-то — лучше всего. Проспер Мериме тоже тут со своей подсказкой: «Они сошлись, соединили руки и несколько минут стояли, задыхаясь и дрожа, охваченные тем острым волнением, за которое я отдал бы сто лет жизни философа». Долой философию! Теория суха, а древо жизни пышно зеленеет. Короче говоря, первые месяцы в Израиле были для меня, в некотором роде, пыткой и кошмаром.
Л.Ф. (назовем ее так) и ее муж, из пещеры 84/36 центра абсорбции, программисты, получили ссуду на открытие собственного дела, сняли квартиру под офис в верхнем Гило (432/48) и закупили оборудование: новейшие компьютеры, от одной мысли о которых у меня голова шла кругом. Программистом я был средней руки, но всё же любил это дело, программировал для советских машин эпохи мезозоя и даже с ними, этими динозаврами, умудрялся некоторую радость получать. Я всё еще был диковинкой в центре абсорбции; народ вокруг меня бурлил и клокотал; люди, страшно вымолвить, оспаривали друг у друга мое внимание — как у монарха… вот если б мои стихи таким спросом пользовались! Неудивительно, что на мою просьбу показать мне эти компьютеры Л.Ф. с готовностью откликнулась и повела меня в этот еще не открытый офис. Там, вдосталь налюбовавшись на технику (и поняв, что мне пришлось бы изрядно потрудиться, чтобы ее освоить… потому что и о рабочем месте у Л.Ф. и ее мужа можно было в принципе говорить), я вдруг и понял, что стоит мне сейчас сделать одно неосторожное движение, и жизнь примет новый оборот. Может, и почудилось. Может, я наговариваю на честную женщину (хотя, конечно, она не перестала бы в моих глазах быть честной, повернись дело иначе). Герцен в своей нетленке премило описывает, как однажды не устоял в подобном случае. Новейшая литература тоже за подсказкой в карман не полезет. Но Бог миловал… Чего стоит супружеская верность, если она не подвергается испытаниям?
Я знал по опыту: тяжело день-два, много три, а дальше наваждение отпустит, расправлю плечи и подниму голову. Гордость свою подогревал словами: «такие болезни, как воспаление легких и влюбленность, переношу на ногах, без постельного режима».
Есть женщины в русских селеньях… А в еврейских? От сравнения удержаться невозможно. Какие из них лучше в глазах предателя, в моих глазах? Меня вырастила русская женщина, в детстве вокруг себя видел я исключительно… нет: преимущественно русских. Родина входила в сердце через них. Константин Симонов, родившийся с армянской фамилией, имя себе сделал и состояние сколотил на этом простом наблюдении: на том, что женщина, русская женщина — ключевое слово в постижении родины, особенно в военное время. Кто не знает чудненьких стихов 1941 года Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины? Там всё об этом: «русская околица», «русские могилы», «русские обычаи», «русская земля», «по-русски рубаху рванув на груди», а самое главное — «русская мать», «русская женщина»:
|
Я всё-таки горд был за самую милую, За горькую землю, где я родился, За то, что на ней умереть мне завещано, Что русская мать нас на свет родила, Что, в бой провожая нас, русская женщина По-русски три раза меня обняла. |
Стихи, конечно, не совсем честные (не говорю: не совсем замечательные: вы, сударыня, и без меня услышите, как в них слова скрипят… по-русски скрипят: что это за насру сская?). Советская армия в годы второй мировой войны была, по своему составу, русской только наполовину. Каково было слушать и читать Симонова воинам-татарам или воинам-армянам, отступавшим по тем же дорогам Смоленщины? Но их не спросишь, они отмолчатся, а евреев можно спросить, даже нельзя не спросить, потому что они, евреи, памятливы и словоохотливы; они так или иначе вам скажут, притом даже в Израиле, что стихи эти — великие, что за родину (это слово непременно с прописной буквы у них пишется: фетишизация чисто советская) они сами или их отцы сражались не зря, и что русские женщины — самые замечательные, сердечные, задушевные.
Мой опыт не противоречит этой поэзии. Сейчас я им поделюсь, только сперва попытаюсь определение дать. Кто она, русская женщина? Которая скака на коню остановит, та и русская? Или по языку? Никаких великороссов нет и никогда не было; они — миф. Та же Смоленщина Симонова — исторически и этнически на треть польско-литовская. Те женщины, что Симонову и его Алеше кринки несли, «прижав, как детей, от дождя их к груди» (попробуйте выговорить эту строку; особенно хорошо это отдождя́ихк) были русскими разве что условно, по принципу отталкивания: в том смысле, что — не немки. Так же точно и великоросса приходится определять как человека без еврейской бабушки. Евреи необходимы России как воздух. Без них там самоидентификация невозможна. С отъездом последнего еврея Россия ушла бы на озерное дно, подобно граду Китежу.
Мне довелось встречать замечательных русских женщин. Все они были умны без острословия, отличались цельностью и достоинством, дорожили простыми, вечными ценностями, а из чувств у них сильнее всего была выражена способность сострадать, потому что страдать в России исторически приходилось больше, чем в других местах. Так русские женщины видятся из России. Задушевность и сердечность отстраняем; они у каждого народа свои, идут часто в первую очередь через язык, через родные звуки. За свою родную задушевность каждый народ готов соседнему народу глотку перегрызть. Если, однако, на ту же русскую женщину взглянуть с Кавказа, где, что ни говори, любое крохотное племя много древнее старшего брата, то она, воспетая в стихах и прозе, предстает в чрезвычайно невыгодном свете: чуть ли не шлюхой. Это — очень твердое представление, свойственное кавказским христианам не в меньшей мере, чем тамошним мусульманам; образованным людям — не в меньшей мере, чем толпе. Русская женщина свободнее восточной. Ее спектр — шире. Рядом с прекрасными, хоть совсем не тургеневскими и не некрасовскими женщинами, которыми нельзя не восхищаться, я помню других; самая отвратительная на моей памяти, из встреченных мною за мою долгую жизнь, профессиональная мошенница, — тоже называла себя русской и православной…
А еврейская, израильская женщина — свободнее русской, хоть она и с восточными корнями. Совершенно та же аберрация: рядом с русской, глазами русского — собирательная еврейка выглядит развратной, циничной, бестактной. Она ярче, артикулированнее, самостоятельнее русской, она менее привязчива, и всё это собирательному русскому не нравится, кажется наглостью. Спору нет, конкретная еврейка может быть вообще любой — совершенно как русская может быть любой; глупой, пошлой — тоже; сколько угодно; говоря словами Буденного из анекдота: «смотря какая бабель». Но всё-таки первое, что приходится сказать при сравнении, это — что еврейка независимее русской. А дальше — кому что по душе. Мне (я ведь о себе пишу, над собою смеюсь) больше по душе еврейская женщина. Совершенно точно знаю: цельности, сострадательности, задушевности и других достоинств найду в ней не меньше, чем в русской. Это — мой выбор; если угодно — мое предательство… Немец, наступавший по дорогам Смоленщины в 1941 году, собирательный немец, так же точно нес в душе образ собирательной немки, которая для советского человека — Эльза Кох, а для него была слепком с богоматери.
Мне известно только одно русское стихотворение, воспевающее (поэтизирующее) тещу: мое. Александру Александровну Костину я любил, как мать, притом, что у нас с нею не было общих интересов, не считая моей дочери и ее дочери. Была ли теща типичной русской женщиной из простых? Похоже на то. В ее лице, фигуре и характере, кстати это или нет, отчетливо проступала северная, варяжская примесь.
Еще об одной русской женщине, у которой в роду явно были болгары или турки, если не цыгане, скажу два слова: о моей однокласснице, а потом однокашнице по физ-меху в Политехническом. Я еще в школе вздыхал по ней много лет, а студентом за нею ухаживал. Когда нам было по двадцать, на факультете нас считали парой… напрасно считали. Далеко ли простирался ее антисемитизм? Допускаю, что не шел дальше неприятия внешности (ее самое принимали за еврейку, что ей очень не нравилось), дальше неприятия физиологического типа: не нравились хищный профиль, глаза навыкате, мало ли что. За такое не упрекнешь, а человек она была хороший. Выходя замуж за другого, решилась сказать мне: «С тобой мне было бы интереснее». Сохранила ко мне дружеские чувства. В 1986 году (мы не виделись с 1970-го) решила вдруг поздравить меня с сорокалетием, без письма и звонка приехала с букетом цветов на Шпалерную, а ей сказали, что я уже два года как в Израиле. В 1994 году мы встретились. Она помнила обо мне, переживала за меня; перечитывала, думая обо мне, блоковское Девушка пела в церковном хоре, где героиня молится «за всех уставших в чужом краю». Обмолвилась, что среди подстерегавших меня опасностей ей виделись «эти женщины»… какие, не сказала, не довела свою мысль до конца. Я и сам не знал, «какие», и вот решил задуматься.
Над кем смеетесь? Над собой смеетесь… Я пишу для себя, смеюсь над собою, и не могу отказать себе в этой терпкой радости: просто перечислять имена.
У русских с именами катастрофа: так их мало; русские фамилии, почти все отыменные, скучны и однотипны до полной унылости. У евреев — тоже катастрофа, но совсем в другом роде: в именах и фамилиях сходятся несовместимые, непредставимые исторические и культурные пласты. Хаим-Вольф Серебряный у Паустовского — еще цветочки. В 2008 году в интернете появился список забавных еврейских имен и фамилий, составленный одной израильтянкой. Абрам Гитлер — из этого списка. Составительница клянется, что ничего не придумала, все имена подлинные. Пусть бы и придумала (или, что вероятнее, в подлинные имена подмешала выдуманные), — те, кто жил в Израиле, согласятся, что звучит список правдоподобно, возник не на голом месте; живую человеческую среду — фонетически и лингвистически — выражает правдиво.
Вот некоторые имена из этого интернетного списка:
Моня Плешивый, Нафтула Нюренберчик, Арон Застенкер, Шлёма Робовыкамень, Меня Шалашибес, Иммануил Портянка, Мотя Нафталин, Джульетта Медалия, Мария Справка, Вера Мебель, Борис Киловат, Песя Шлагбаум, Абрам Хамерклоп, Гад Ёлкин, Цыпа Курица, Зеев Зайчик (Зеев на иврите волк), Мира Голубь, Моше Верблюд, Джозеф Тёлушкин, Хаим Кукиш, Мотя Мудак, Зуся Холуй, Натан Брехун, Соломон Наглер, Александр Бляблин, Самуил Анакойхер, Буся Сралис, Дыня Мерлин, Психея Ватник, Лолита Мордуховна Подошва, Цилиндра Срулевна Гробокопатель, Абрам Католик, Мирьям Хреново-Варшавская, Хая Опоздовер, Султан Шнеерсон, Израиль Бравоживотовский, Менуха Интриллигатор, Израиль Пилат, Сара Гренадёр, Фира Комисар, Арье Шахермахер, Людмила Магазинер, Ядя Халява, Зусвази Редиска, Тушка Фридман, Фрида Безрук, Йони Кривоножк, Сиська Зисман, Саша Кобеливхер, Арон Хернахер, Сёма Злотоябко…
Какой пир воображению! Пир духа (это словосочетание молва приписывает Горбачеву)! Встает вопрос, как этой Голкондой распорядиться: смеяться или плакать? Смеяться и плакать? Отмахнуться? И еще: кому она на руку? Не обрадует ли антисемита? Но тут беспокоиться нечего. Антисемит грязи найдет. А мы вот что скажем: фамилии у евреев недавно появились; в России — только в 1804 году, по требованию правительства. Почти три тысячи лет большинству евреев они вовсе не требовались. Две тысячи из этих трех — русского языка, так мило оживившего список еврейских прозвищ, просто не существовало. Это раз. Второе: не в этом дело. Хоть горшком назови, только в печь не отправляй. Третье: филологический абсурд отражает абсурд исторический. Гетто и черта оседлости глядят на нас из этого списка. Богдан (на самом деле Зиновий) Хмельницкий и Гитлер, Адольф Гитлер, — тоже.
Теперь берем меня или другого чистоплюя, для которого неправильный порядок слов в предложении — мука, а иноязычные вкрапления в родном русском языке — пытка; берем его за шкирку, или лучше за мягкое место, и помещаем в этот список, в сердцевину, в пучину этого лингвистического бедлама: что он будет испытывать? Он волком взвоет; Волком Зайчиком. Он спросит себя: а не лучше ли было остаться в стране березок и рябин, где девочку непременно зовут Оля Иванова, а мальчика, сами понимаете, Сережа Смирнов.
Мой личный список куда как беднее, чем этот Вавилон, но и в нем — масса поучительного; главное же — он мой. Одну из самых первых наших посетительниц в центре абсорбции звали Шеля. Это — от Шуламит, от Суламифь. Чуть позже выяснилось, что обычное уменьшительно-ласкательное от этого поэтического имени — не Шеля, даже не Шуля, а Ляма. (У Маяковского: «Краска — дело мамино. Моя мама — Лямина». Это о временах НЭПа, была, значит, такая фамилия, и теперь понятно, как она возникла в русском языке.) А от Лямы недалеко отстоит и приятельски-фамильярная Лямка. Получается уже прямо родное русское слово, да еще с намеком: какая же подруга — не лямка? Даже царю Соломону возлюбленная — сперва песнь песней, а потом — сами понимаете.
Или вот Муся: еще одно женское имя. Угадайте, от какого? От Ноэми. Совершенно в духе родного языка; попробуйте объяснить иностранцу, что Александр и Саша — одно и то же.
По-соседству от нас (Гило 524/11) жила Мира Сролиович, бывшая учительница моего покойного друга Сени Белинского. Когда она пришла и представилась, я, по совести говоря, от звука ее имени вздрогнул. Вообразим теперь, как в России, в Ленинграде, где она прожила большую часть жизни, всякий человек вздрагивал от ее имени (от моего имени — только морщились)… В Израиле Мира поменяла фамилию, стала бен-Исраэль.
Отдельный отряд моего личного списка образуют имена внушительные, но чуть-чуть опереточные: Феликс Дектор, Мелик Агурский, Дина Яблонская, Шимон Волнянский, Зеев Алёшин, Фёдор Шмидель, Элла Туровская, Менахем Кричевский, Хелен Паташник, Стелла Рыжикова, Арье Зарицкий, Нелли Парадиз, Авигдор Эскин, Яир Параг, Дора Штурман, Абрам Рачковский, Авива Хазаз, Моше Барнеа, Кармела Мерельман, Фрима Гурфинкель, Дора Анчиполовская, Мира Авербух, Мила Шахар, Мира Блинкова, Абрам Белов-Элинсон, Фрида Натура…
Феликс Дектор — московский борец и подвижник, основатель издательства Тарбут (в переводе: культура), которое из московского еврейского самиздата он перенес в Израиль. На израильский Вавилон Феликс откликнулся остроумной фразой: «Еврейский писатель — тот, кто пишет о евреях для евреев». Конечно, ее, эту фразу, и до него на разные лады произносили несколько сот лет; она — ответ на вопрос, висевший в воздухе; висевший и висящий. Куда девать, как квалифицировать толпу понаехавших в Израиль авторов, не знающих иврита? Русский писатель — тот, кто пишет по-русски; французский — тот, кто пишет по-французски… А еврейский? Тут и приходит на ум формула Дектора. Какой еще народ десять раз сменил язык, оставшись самим собою? Безразличие к языку — в каком народе оно выражено сильнее всего (см. список имен)? Страсть к языку — у кого она гипертрофирована больше, чем у евреев? Хранители чистоты языка в больших языковых культурах — почти сплошь инородцы и очень часто евреи. Взять хоть меня…
Вполне понятно, что меня формула Дектора не устраивала. Я не мыслитель, я сопрягаю звуки на родном языке. Что я скажу тем, кто не знает русского языка, не любит русской поэзии? Будь они сто раз евреями, они мне чужие. К тому же — стихи непереводимы. Честному поэту переводы его стихов отвратительны, кажутся карикатурой на самое сокровенное в нем… Какую брезгливость вызывали во мне те, кто непременно хотел увидеть свои стихи переведенными! Вызывали и вызывают. Что переводить будем?! Мысль поэта недорого стоит в отрыве от звуков, от его звуков; всё его мастерство, все его изобразительные средства — в звуках; а в переводе — звуки принадлежат переводчику! Переводится (перелагается в звуки чужого языка) только имя сочинителя, да и то плохо.
Но чужими были мне и те, кто остался в прежней жизни. Не для советского же человека я пишу! Этот человек, взятый статистически, — отвратителен: глуп, пошл, подл. Он терпит подлую и пошлую власть — да что терпит! Он ее создал, она ему родная. А Пушкин ему — чужой. Что мне искать в таком читателе? Выходило, что одиночество моё — полное, неприкаянное. Оно, положим, и всегда-то так было в моей жизни, но в Израиле, где соблазн родственного душевного тепла висел в воздухе, эти чувства обострились до предела.
Весь кошмар этих мыслей неотступно стоял перед глазами, отравляя радости жизни, заслоняя дивные израильские пейзажи — и парализуя волю. Я знал, что соблазну растворения в еврействе не уступлю. Но тогда где же спасительная ариаднина нить? Как я выживу? Зачем живу? Счастливы верующие: Герцен и Бакунин, коммунисты и сионисты, христиане и почвенники. Каково принадлежать к партии, состоящей из тебя одного?
К счастью, человек непоследователен и не каждую минуту решает вопрос о смысле жизни. Вокруг были милые люди. На выручку приходил упоительный даже в своей горечи еврейский юмор. Я утешался формулой Гарика (Губермана): «Все люди — евреи, но только не все нашли в себе смелость сознаться». В будущем, в пределе, в перспективе, все люди — евреи. Все люди станут евреями, войдя в возраст, в разум и в совесть. Некоторые — уже вошли. Я мог бы повторить за Борисом Чичибабиным (только в ту пору не знал этих стихов): «все близкие люди мои — поголовно евреи». Формула Дектора с поправкой Губермана и Чичибабина — чего лучше?
Дектора я знал мало; вижу его человеком жестким. Его журнал Народ и земля редактировали, сколько помню, Наташа Рубинштейн и Миша Хейфиц, не то вместе, не то по очереди. Я там напечатал фрагмент воспоминаний Годы отказа (№3, 1985).
— Не рано ли воспоминания писать? — спросил меня Дектор. Мы были едва знакомы, столкнулись в одном из кампусов иерусалимского университета, в Гиват-Раме. В ту пору вход в кампус был свободный, сумки не проверяли, удостоверений не спрашивали…
— Причем здесь возраст? — ответил я. — Было бы, что вспомнить.
Мне и в голову не пришло, что Дектор имел в виду отнюдь не возраст, а право. Вспоминать — право известных людей: вот что он хотел сказать. Жаль, я вовремя не догадался, куда он клонит. Сказал бы ему: право вспоминать о себе есть у каждого; перед прошлым, как перед долларом и перед Богом, все равны; было бы желание вспомнить да умение написать… А может, и не сказал бы. Мой поздний опыт свидетельствует, что любые мемуары вызывают у людей преимущественно возмущение. Похоже, это — в природе жанра.
Мелик Агурский (1933-1991, в прежней жизни — Михаил Самуилович Агурский)… Он мне в 1984 году показался в первую очередь советологом; приставал ко мне (в числе многих) с вопросом, крепка ли советская власть. Я честно ответил, что она — тысячелетний рейх, и мы ее конца не увидим. Агурский не поверил; сказал: больше ста лет не протянет. Что ей 7 лет жизни отпущено, этого не понимал никто… Агурский, вырвавшись на свободу, зачем-то защищал политологическую диссертацию в Сорбонне, притом, что у него и так была степень, по родственным мне делам, по кибернетике. Он был сыном безумца, переселившегося в 1920-е или 1930-е из США в СССР и, естественно, погибшего. Сам Агурский поехал умирать в родную Москву: умер от сердечного приступа во время так называемого конгресса соотечественников. Еще не зная о его смерти, только прослышав, что он — с соотечественниками, я, помню, изумлялся: где же его гордость? Я бы этим руки не протянул. Хотя — в 1991 году с Россией еще можно было связывать какие-то надежды…
Дина Яблонская помогала новым репатриантам. Не помню ее у нас в центре абсорбции в Гило, хоть она точно бывала там, помню — спустя три года, в нашей квартире в Писгат-Зееве (она жила в соседнем районе, в Неве-Яакове; в гости друг к другу ходили пешком). Портрет Дины нарисован в одном из моих немногих нерифмованных стихотворений:
|
Дорога сворачивает на Камчатку. Гражданскую, веришь ли, оборону В нагрузку к языку и литературе, — Вот что она там преподавала! Сопки, олени. Поодаль — Чукотка, Где отпуск учительница проводит. Холодное, комариное лето. Полдюжины выцветших фотографий. Возвращенье. Безвременье, остыванье, Романы, супружество полупустое. Качается маятник московский, Линяет, в кольца свившись, эпоха. Тут — приговор: от силы — полгода. Резиновые перчатки хирурга. Эфир, щекочущий нервы. Морфий. Апелляция к небу. Оттуда — прощенье. Теперь — кабба́ла и виноградник В зелёной, сияющей Галилее. Судьба, при ближайшем рассмотрении, вышла Как все. Твоей и моей не хуже. |
Дине диагностировали рак, положили на операцию, разрезали — и зашили: как безнадежную; метастазы были всюду. Она пошла к раввину (или добрые люди привели к ней раввина). Раввин сказал: поправиться можно, нужно только заповеди соблюдать (заметьте: не веровать и не Бога любить, это вам не христианство). Дина стала соблюдать заповеди, увлеклась, делала это всем сердцем; через какое-то время почувствовала себя лучше, пришла к врачам, и те не нашли у нее никаких метастазов (так — с ее слов; может, слукавили?). Помню Дину одинокой, веселой, даже смешливой, а по части религии — ненавязчивой. Не помню ни одного ее слова, кроме рассказа, вошедшего в стихи, который, войдя в стихи, сам из памяти выпал. Интернет называет Дину «преподавательницей еврейской традиции»; он же, интернет, сообщает, что Дина умерла в 2000 году от рака. Текстов от нее (в сети) не осталось; только интервью с французом, принявшим иудаизм. Кто еще ее помнит? «Человек умирает, песок остывает согретый...»
Зеев Алёшин, естественно, не Зеевом родился, а Владимиром. При характерной русской фамилии принадлежность к еврейству многие хотели в Израиле подчеркнуть переменой имени. Новое имя могло быть любым, но к некоторым не еврейским именам народная филология подыскала еврейские соответствия. Например, Владимир обычно превращался в Зеева. Почему? Может быть, по созвучию: Wolf, Waldemar, Vladimer (в летописях — именно так, через е)… Максим превращался в Меира, Виктор — в Авигдора. У немцев, вероятно, в духе этой же логики, Heinrich становился Хаимом. Иные просто переводили свои еврейские имена на язык оригинала: Анна могла стать Ханой, Ева — Хавой, Елизавета — Элишевой (но наша дочь не стала, решительно воспротивилась общественному нажиму), Моисей — Моше, Ефрем — Эфраимом.
Элла Туровская, родом из Харькова, работала медсестрой в нашей больничной кассе. Ее мужа звали как-то совсем уж не по-еврейски: Степан. Услыхав об этом, я, принципиальный противник смены имен, поймал себя на дурной мысли: уж такое-то имя, выдающее конформизм родителей, следовало бы сменить. Не сразу смог я прогнать эту низость. Странно устроен человек! Разве мое имя было хоть чем-нибудь лучше?.. Туровские жили в Рамоте, на север от центра Иерусалима. Один или два раза мы были у них в гостях, но дружбы не получилось. Куда сильнее, чем имя Степа, резануло меня другое: портрет Есенина на стене их квартиры, препротивный, тот, где он с трубкой и масляными глазками. Оказалось, Элла любит Есенина! Меня словно в средневековье отбросили или в детство… Я было попробовал навести ее мысль на других русских поэтов, но тотчас почувствовал безнадежность этой затеи (сердцу не прикажешь!) — и безнадежность моего положения в этом мире. Как тут не разочароваться в Израиле? Между тем Элла была как раз из тех, кто открыто разочарован в Израиле. Она говорила:
— Люблю эту страну только за то, что раз в год могу уехать из нее в отпуск. — Сейчас этих ее слов попросту не поймут; все забыли, что из СССР выехать за границу в отпуск простой человек не мог.
Элла со Степой обычно ездили в отпуск в Скандинавию и тратили на месячную поездку сумасшедшие (мне чудилось) деньги: тысячу долларов. Где взять столько? Что за расточительство?! Разочарование Эллы в Израиле казалось мне непостижимым ребячеством. Выходило, что там, в своем Харькове, она на минуту дала волю мечте о земном рае, поверила в осуществившееся светлое будущее в одной отдельно взятой стране. Нет: ни я, ни Таня такого в мыслях не держали; понимали, что едем не в рай, знали, что в Европе или Америке нам было бы лучше, чем в Израиле, — и разочарования не испытывали (а раздражение случалось довольно часто).
Публицистка Дора Штурман преклонялась перед Солженицыным, писала о нем, состояла с ним в переписке. В этом преклонении, в этой дружбе незаурядной женщины с писателем земли русской мне виделось что-то неправильное. Конечно, нельзя было не отдать должное Солженицыну. Никто не сделал больше него в борьбе против подлой власти, спасибо ему, но ведь и недобросовестность его к евреям была очевидна. Юз Алешковский, в декабре 1984 года забежавший ко мне на пять минут (познакомиться мы так и не успели) с приветом и книгами от Льва Лосева, ехал от меня к Доре, которую, милый шутник, именовал Шторой Дурман. Думаю, что и он, как я, в целом относился к ее сочинениям вполне уважительно, но тут грех было не сострить, каламбур напрашивался… Пожилой человек, пенсионер, Дора отличалась необычайной плодовитостью, публиковала по 10-20 статей в год — и попала из-за этого в забавную историю. На Западе существуют конторы, торгующие славой. Делают они вот что: проводят поверхностный анализ в какой-либо области, где продукт носит имя изготовителя, — например, в русской публицистике, — и выделяют имена, встречающиеся чаще других. В один прекрасный день имярек, плодовитый автор, получает на солидном бланке извещение о том, что он избран человеком года, и — сертификат на этот титул с водяными знаками. В письме, в самом низу, имеется приписка, что за небольшую сумму — скажем, за тридцать долларов, — фирма вышлет ему настольную табличку с его именем и титулом. В этом и состоит бизнес: фирма, собственно говоря, торгует табличками, которые изготовляет тысячами. Люди неизменно клюют на эту удочку. Если человек деятелен — скажем, опубликовал двадцать статей в год, — то ему и кажется, что все вокруг говорят только о нем. Вот Дора и купила такую табличку со своим именем; говорят, и на столе держала… Характерно, что такие фирмы никогда не обращаются к людям действительно знаменитым, — к киноактерам или эстрадным кривлякам, — а только к тем, кто может быть тщеславен, но настоящей славой обойден. Расчет тут безошибочный, бизнес беспроигрышный: нет такой лести, которой бы человек не проглотил.
Другая Дора, наша соседка Дора Анчиполовская с улицы Афарсимон (то есть с улицы Хурмы), человек одинокий и со странностями, появилась у нас в гостях в самые первые дни, была мила и приветлива, настойчиво звала к себе, и мы приняли приглашение. Она подозревала, что мы с нею (я и она) находимся в каком-то родстве или свойстве. Взаимные визиты с чаепитиями и мелкими подарками длились с полгода, но общие темы быстро иссякли, дружбы не получилось… а потом, не иначе как в тяжелую минуту, Дора сказала Тане при случайной встрече в автобусе, что ей, Тане, нечего делать в Израиле, что она занимает чужое место — и что лучше бы я бросил ее подыхать в России, а женился бы на еврейке… Буквально так и сказала: подыхать. Тут мы вспомнили, что Дора получала пенсию по психическому нездоровью, но это принесло нам разве что частичное утешение… Не знаю, что про нас говорили за глаза. В глаза такое было нам сказано только раз вот этой Дорой. Один раз, но — было.
— Вы за кого посоветуете голосовать? — спросил я Усоскина. Дело было в среду, 11 июля 1984 года, в мисрад-а-хуце, в русском отделе МИДа на улице генерала Мендлера 25, в Тель-Авиве. Усоскин посмотрел на меня, как на идиота; и с полным основанием.
Мы съехались на совещание. Как я понимаю, его (совещания) добился Усоскин. От МИДа был Яков Кедми и еще два человека: Реувен и Моше. От общественности были Усоскин, Наташа Маркова и я-болезный. Зачем я-то Усоскину потребовался? Неужто он меня не разглядел с полоборота? Человек менее политизированный, чем я, вообще никогда не ступал на землю Израиля. Для меня совещание и поездка в Тель-Авив были только обузой.
Усоскин говорил, что ситуация в России — тяжелейшая; что евреи (отказники и другие) потеряли веру в Израиль; что виноват в этом — мисрад-а-хуц, по-русски МИД; что в последнее десятилетие все, кто ездят с визитами в Россию, не приносят своими поездками никакой пользы; что ездят в основном американцы, а их отчеты плохи; что из России на эти визиты нет никакого отклика; что информация оттуда и туда не доходит; что в Израиле патологически боятся участия советских евреев в российских диссидентских делах. Говорил он горячо и бестолково. Наконец прямо спросил: в какой мере мисрад-а-хуц сотрудничает с КГБ? От этого обвинения у меня волосы на голове зашевелились.
Представители министерства слушали все это вяло и словно бы с внутренней ухмылкой: мол, резвятся дети, беснуются, взрослых вещей не понимают.
Визит бывшего президента, продолжал Усоскин, — провокация против отказников. Я слушал, разинув рот. Оказалось, Эфраим Кацир, четвертый президент Израиля (1973–78), действительно, ездил в Москву, только не как бывший президент, а как ученый. Немножко попрезидентствовав, он вернулся к науке. В Израиле все президенты (кроме Шимона Переса) — ученые, и не всегда бывшие. Никто никогда толком не знает их имен (в отличие от имен израильских премьер-министров, которые всегда на слуху — и с советскими проклятиями в качестве титула)… Это не совсем к месту, скорее к слову, я забегаю вперед, — но всё-таки вот историйка… может, неровен час, к месту рассказать не доведется, а я дорожу ею:
— Как пишется по-русски имя президента Израиля: Херцог или Герцог? — спросили раз израильтянку Таню Бен, работавшую на Би-Би-Си. Дело происходило в начале 1990-х. Спрашивавший переводил с английского и засомневался. На Би-Би-Си все новости — переводные, а по-английски это имя пишется Hertsog.
— Через Г, — откликнулась Таня. — Он — настоящий герцог, только Хаим.
Хаим Герцог был шестым президентом Израиля, с 1983 по 1993 год.
К политике израильские президенты практически непричастны; иначе бы, пожалуй, не бывать Кациру в Москве… Он и позже ездил в столицу всего прогрессивного человечества; участвовал в конгрессе биохимических обществ в 1986 году, сопредседательствовал там на одной из секций, где выяснилось, что он говорит по-русски (до шести лет жил в Киеве; фамилия у него там была Качальский). Однако ж после конференции Кацир начудил: поехал в Ленинград с намерением навестить каких-то отказников, был арестован и выслан.
— Что сделал мисрад-а-хуц для Голоса Израиля, — продолжал меж тем Усоскин, — единственного органа защиты отказников в России? — Я опять ничего не понимал: почему МИД должен что-то делать для радиостанции? Денег, что ли, подбросить? В России эту радиостанцию я не слушал — как и другие голоса; вообще не знал о ее существовании; в Израиле послушал и ужаснулся; уровень ее оказался удручающе низок; зато, утешал я себя, она уж точно народна, демократия тут полная: ее волны открыты всем, вот ведь и меня позвали выступать и стихи мои прочесть позволили…
Слушать Усоскина было сущей мукой. Говорил он много и, мне чудилось, впустую, не по делу, главное же — в своем обычном ключе: непрерывно бахвалясь. Зачем это ему? спрашивал я себя. Неужели нельзя иначе? Неужели невозможен конструктивный подход: перечислить факты и задачи, поставить вопросы? Ведь люди, включая нас, зря время тратят. Между тем он произнес цифры, от которых меня бросило в холодный пот. За июнь месяц, сказал Усоскин, он истратил на звонки 78 тысяч шекелей своих денег и написал тысячу писем… Не верить я не мог. Но что же получалось? На борьбу за наше правое дело этот фантастический человек истратил в три с лишним раза больше денег, чем нам дали на хлеб. И это бы ладно; зарабатывает — и не скупится; молодец. Поражало другое. Я точно знал, что на маломальское письмо на родном языке трачу полчаса, на нормальное — от часу до двух, а совсем важные письма пишу не в один присест, не в один день. Берем, однако ж, полчаса. Талантливый человек работает быстро. Пусть Усоскин тратит всего 30 минут на письмо, на иврите или по-английски; выходит 500 часов в месяц, а в месяце только 720 часов. Когда же работать? Ведь он «вкалывает по 12 часов в день», что дает минимум 240 часов при пятидневной рабочей неделе. Выходит, что на сон Усоскину остается минус 20 часов в месяц. А ведь еще звонки! Положим на них полчаса в день. Тогда в месяце у Эдуарда Усоскина 755 часов — против моих 720. Что же это такое?.. Остается искать помощи у Гегеля с его количественно-качественным переходом. Количество не могло тут не идти в ущерб качеству. Так и оказалось. Потом мне говорили, что одно свое письмо к премьер-министру Израиля, написанное не на иврите, а по-английски, Усоскин умудрился начать словами: Dear Primer Minister. Даже моего английского хватало, чтобы от такого поежиться. Плохо написанный текст остается непрочитанным. Но, может, Усоскин один и тот же текст рассылал многим? Если так, это тоже зря. Я по себе знал: письмо, хоть и присланное мне, но адресованное (если это видно из текста) сразу многим, я не прочту. И это я, то есть никто и звать никак. Вообразим теперь, что я премьер-министр. Получаю письмо, а оно начинается: «Уважаемый букварь-министр!» Стану я читать такое дальше?..
Наташа Маркова говорила на этом совещании о том, что в израильской прессе полно статей, поносящих советское еврейство. Например, Чарли Битон, сказала она, пишет, что советским евреям ничто не угрожает, и в целом живется им в СССР хорошо. Исходя из имени, я решил, что речь идет о переводной статье; мысленно увидел визитера-американца, которого в Москве обвели вокруг пальца. А между тем Чарли Битон был самый что ни на есть израильтянин, притом марокканского происхождения; глава движения израильских черных пантер (марокканцев) за социальное равенство. Он больше всего запомнился своим белым переделом: собрал как-то со своей дружиной бутылки с молоком, выставленные рано утром молочниками под дверьми состоятельных белых израильтян (ашкеназим) в иерусалимском районе Рехавия и отвез это молоко нуждающимся соплеменникам в бедные марокканские кварталы. Воровство — но вместе с тем и социальный протест, притом остроумный. С этим протестом Чарли Битон и вошел в историю, даже членом Кнессета сделался, но я это имя услышал второй раз только годы спустя — после того, как покинул Израиль; а в ту памятную среду слушал Наташу Маркову — как глухой.
Среди прочего на совещании было сказано: под моим (в моей редакции) письмом за свободную репатриацию подписалось на 10 июля 1984 года — 376 семей.
Усоскин говорил в МИДе на улице Мендлера: визиты — бесполезны, и я не возражал, как тут возражать? Он вождь и борец, ему виднее. Что в моей советской жизни гости из свободного мира значили невероятно много; что они, можно сказать, перевернули эту жизнь, сообщили ей надежду, смысл и направление, — этого всего я не сказал. Думал, что мой случай — особенный. Разумеется, допускал при этом, что попадаю в стандартную ловушку: кто же не считает себя особенным? — притом с полным правом считает, двух-то одинаковых людей нет, а любая типизация условна… Не будь гостей, я, в случае получения визы (без них, впрочем, маловероятном), вряд ли и в Израиль-то поехал бы. Британец Пол Коллин в декабре 1982 года привез мне слова «мамы» Лии Колкер о том, что она не станет посылать нам вызовы, если мы собираемся не в Израиль. От Льва Утевского пришло в пересказе похожее предостережение. Говорить с честными сионистами о русской литературе было смешно; жить в России — невозможно, да и моему понятию о чести претило. И я сказал себе: Израиль — не гетто.
В Лондоне существовала группа содействия отказникам, почти сплошь женщины, известная под названием Комитет 35-и (потом они сказали о себе с гордостью: «Мы, домохозяйки, победили КГБ»); другая группа несколько напыщенно именовалась Exodus (Исход). Издавался еженедельный бюллетень Евреи в СССР. В нем, в июле 1984 года, Джеки Чернетт описала свою поездку в Израиль и встречу с нами, причем начала рассказ издалека, с визита в нашу ленинградскую коммуналку, где побывала в апреле. Вот какими она увидела нас:
«Yuri is a warm, gentle person, a poet — a quiet man of great sensitivity, who has edited Russian literary works and had them published abroad. His wife, Tanya, is a sweet natured girl who suffers from a chronic back complaint and high blood pressure. Lisa is a quiet, pretty and intelligent child, obviously much loved by both parents. All three speak English, Lisa to a lesser extent, of course, but we had no difficulty in communicating with them at all…»
Всё верно: и то, что я — застенчивый малый с литературными интересами и заграничными публикациями; и что гостеприимная Таня страдает от хронической болезни позвоночника и гипертонии. Некоторым преувеличением звучат слова о том, что все трое говорят по-английски так, что затруднений при общении не возникло; спасибо милой Джеки.
«Как только я услышала от Пола и Розалинд Коллинов, что Колкеры вырвались на свободу, я немедленно заказала билет в Израиль и на другой день по прилете помчалась к ним в Гило. При встрече, необычайно радушной, я, наконец, смогла им показать, что было сделано для них нашей группой Исход… я привезла им книгу Мартина Гильберта Евреи надежды …мы говорили по-английски, но теперь наша английская речь была уснащена еврейскими словами; мы говорили о свободе, о еврейской истории, о поэзии Ветхого Завета, и всё это — в преддверии израильских выборов, которые, к моему изумлению, внушали Юрию некоторый ужас. Оказалось, он пока что считает себя не вправе принять в них участие. Я увидела, что жизнь в свободном обществе, где у человека есть право выбора (нечто, для нас само собою разумеющееся), поставила перед Юрием непредвиденные проблемы…»
Опять всё верно (только зря Джеки добавляет, что Лиза свободно читает на иврите через четыре недели после приземления; точнее было бы сказать, что она уже болтает на этом языке).
В Израиль Джеки прилетела в субботу 13 июля 1984 года, в воскресенье утром была у нас в Гило; в понедельник повезла нас троих (естественно, на машине, взятой напрокат) в Тель-Авив: хотела, добрая душа, устроить нам праздник; и устроила; одна поездка по этому фантастическому шоссе с гор к морю была праздником. Чего Джеки не понимала, так это нашего состояния. Могла бы понять; ведь заметила же, что я не готов голосовать и вообще ошарашен наплывом впечатлений. Если б поняла, не стала бы нас знакомить с новыми людьми, даже приезжать не стала бы — потому что и сама добрая Джеки всё еще была для нас новым, едва знакомым человеком, не укладывалась в нашу картину мира. В Тель-Авиве к Джеки присоединилась другая активистка Исхода, Линда Айзекс, британка, знавшая несколько слов по-русски от своего русского дедушки; пара недавних репатриантов, Александра и Эйтан Финкельштейны, приехавшие в Израиль осенью 1983 года после тринадцати лет в отказе, а еще — соберитесь с духом — женщина-раввин из реформистской синагоги в Рамат-Авиве по имени Брурия Бариш. «…Обезьяну, попугая — вот компания какая…»
Джеки и тут хотела нам помочь: одних хороших людей познакомить с другими, но мне в этом почудилась почти бестактность. Спору нет, новые знакомые оказались людьми замечательными, интересными, да и сама Джеки была нам интересна, только не вполне понятна, — но всё это перегружало сверх меры наши слабые головы (одна только Лиза была счастлива и беззаботна). Как всё это вобрать разом? Каждый человек — целый мир. Этот мир нужно как-то согласовать со своим, свою правду увязать с его правдой… иначе мироздание рухнет, а мы с ними — такие разные! Выдержим ли это землетрясение? Не раздавит ли нас бетонными плитами?
Имя Брурия (на это моего иврита хватало) я немедленно истолковал как перевод имени Claire, Клара, Светлана, — но, господа хорошие, что за звуки! Разве они не безобразны, не брутальны? Неужели только моё русское ухо они режут? Это первое; а второе: что такое женщина-раввин? Как относиться к этому? Вздор это — или шаг вперед, к нашему светлому будущему? Ну, и третье, самое главное: коллективизм. Понятно, когда людей сводит вместе общая страсть — к свободе, к музыке, к наживе, к науке. Такие коллективы временны; но я решительно не видел, что может связать меня, притом навсегда, с англоязычной Брурией, несущей в массы знамя Торы и Талмуда, не прочитавшей Пушкина, да к тому же еще и толстой.
С Финкельштейнами, нашими товарищами по несчастью, по стране исхода, с культурными русскими евреями, — нам было не многим легче. Александра, биолог, уже работала, и я подумал: какое безмерное расстояние между нею и мной, ведь у меня почва из-под ног уходит. Эйтана я в тот день не разглядел; он, как и я, держался отстраненно и словно бы застенчиво (застенчивость же, знаю по себе, иногда скрывает бешеные амбиции), — а как раз Эйтан-то был не просто интересным, но и близким по духу человеком: писателем, журналистом. Не разглядел же я его вот почему: он мне показался больше сионистом, чем нужно; и опять я ошибся. Через год или два Эйтан перебрался в Мюнхен. Джеки, в цитированном информационном бюллетене, отмечает — со слов Александры Финкельштейн — странное: что Эйтан начал седеть не в годы отказа, а в центре абсорбции сразу после приезда. Тут, конечно, его возраст мог заявить о себе (он был примерно моих лет), да и годы, проведенные в отказе (с 1970-го по 1983-й!) сказаться задним числом, но будь это так, слова о седине не были бы произнесены и услышаны. Эйтан разочаровался в Израиле. Это разочарование не было примитивным. Он хотел найти в новой стране культурный заповедник русских евреев, хотел быть евреем — и русским, а нашел среду, подталкивавшую к ассимиляции, к растворению и перерождению. В Мюнхене, вместе с Шимоном Маркишем, Эйтан потом издавал Еврейский журнал (1991–1993). В 2002 году мне попался рассказ Эйтана Финкельштейна, едва ли не лучший из всех коротких рассказов, мною когда-либо читанных: Командарм. Я крепко запомнил этот рассказ, несмотря на то, что он — о Сталине, который никогда не был мне интересен. Текст весь умещается в полстраницы; вот он:
Плечистый и широкогрудый, Гриша сидит за большим столом, опустив голову с густой шапкой черных, но уже тронутых сединой волос. Сегодня у него привилегия сидеть; рана ноги, полученная в двадцатом под Варшавой, дала о себе знать. Командующий стоит. Сталин ходит из угла в угол. Вот уже целый час он их распекает, но командующего словно не замечает; обращается к нему, заму. Странно. Если ни в грош не ставишь человека, зачем назначать его командующим? А Сталин тычет Грише трубкой и тычет: «Мы должны одеть в броню всю авиацию, все самолеты. Почему руководство ВВС РККА саботирует решение партии и правительства?» — «Но ведь они же не будут летать!» — «Почему вы, товарищ командарм, думаете, что вы умнее, чем политбюро и вся наша партия?» — «Я не умнее, я — летчик». — «Правильно, вы у нас герой Гвадалахары и Халхин-Гола, но без партии вы никто». — «Самолеты, одетые броней, не поднимутся в воздух». — «С той броней, которую нам подсовывают спецы-вредители из Броневого института, конечно, не поднимутся. Но партия нашла способ создать легкую броню. Идею подал рабочий-изобретатель. Он взял два листа железа, соединил их, и получилась броня: пуля, пробивая первый лист, теряет силу. Второй остается невредимым. Это же диалектика: погибая — защищает!»
При слове диалектика Гриша поднял голову, но увидел не Сталина, а маленького узколобого человека с изъеденным оспой лицом, который почему-то решил, что все знает, всех может поучать, назначать и снимать.
Сталин тоже посмотрел на Гришу. Но никого не увидел.
Прототип Гриши, насколько я понимаю, — Яков Вольфович (Владимирович) Смушкевич, герой, человек фантастического мужества и редкого ума, один из лучших советских летчиков. В Испании он был известен под именем генерала Дугласа и так отличился, что за его голову была назначена награда в миллион немецких марок. Считают, что победа под Гвадалахарой (разгром итальянского корпуса) — его заслуга. Он был ранен не под Варшавой (где мог быть; в 18 лет командовал стрелковым полком на западном фронте; летать начал в 20 лет), а во время крушения в ходе тренировочного полета в 1938 году, 36-и лет от роду. Ему раздробило обе ноги до бедер; не ждали, что он встанет, а он и на протезах летал и снова показал чудеса доблести — в Монголии, над рекой Халхин-Гол, в 1939 году. За что человек сражался? За что мы все сражаемся? Сталин убил Смушкевича в октябре 1941 года. Рассказ Эйтана я пытался напечатать в 2002 году в лондонском Колоколе, где состоял помощником редактора, но главному редактору Шлепянову он (рассказ), непостижимым образом не понравился.

Со всеми сделанными оговорками праздник 15 июня 1984 года — удался. Лизе предложили выбрать ресторан неподалеку от побережья, она выбрала, и богатые англичане повели туда всю компанию обедать. Дело было к вечеру. Сидели мы под тентами, на улице; с одной стороны — море, с другой — какая-то площадь. Совмещать еду с разговором я никогда не умел, больше молчал; общий застольный разговор труден мне и по-русски (если только не всё внимание сосредоточено на мне как на диковинке; тут бы и английский не стал помехой). Джеки говорила, что теперь, как она видит, необходимо распространить помощь и на тех, кто уже репатриировался в Израиль; создать новую организацию: Исход в Израиле. По ее словам, израильские реформисты уже откликнулись на этот призыв, откуда и участие Брурии в нашей компании. Каждая реформистская синагога готова взять под свое крыло семью вновь прибывших. Я не понял, не захотел понять этой инициативы. Мне требовалось скорее уединение, чем коллектив, — несколько часов творческого уныния в день, любой ценой, любыми жертвами. Как такое можно было объяснить этим добрым людям?
Лиза, как завороженная, глазела на мальчишек и девчонок, катавшихся на роликах чуть не между нашими столами; мы с Таней не отрываясь смотрели в сторону пляжа, этого нескончаемого южного праздника, на солнце, пышно садившееся в Средиземное море. Устали мы смертельно: так, как устают только от отдыха в не совсем своей компании. На пути назад Лиза в машине засыпала, но даже в полусне умудрилась сказать Джеки нечто, хм, идеологическое: что жить можно только в Иерусалиме (она еще не знала, что побережье — не часть Иерусалима), и она не понимает тех, кто думает иначе. Или Джеки ослышалась? Джеки верно запомнила мои слова о том, что положение советских отказников трагично; что наша (нашей семьи) свобода продолжает казаться мне чудом; что Израиль вернул нам человеческое достоинство, отнятое Россией. Запомнила и опубликовала.
— Ты за кого голосовать будешь? — этот вопрос висел в воздухе. Надвигались внеочередные выборы; правительственный кризис, казавшийся перманентным, дошел, что называется, до ручки.
Я не знал, за кого голосовать; не у одного Усоскина совета спрашивал. И не один Усоскин смотрел на меня, как на идиота.
— Правее меня — только стенка, — вот что было на устах у всех выходцев из СССР.
Я, разумеется, тоже был правым, но — в эстетике; политики же — в упор не понимал. Как у людей язык поворачивается называть Шимона Переса или Шуламит Алони предателями? Люди жизнь положили, борясь за свой народ: за счастье этого народа, каким оно им рисовалось. Может, эти вожди ошибаются; разумеется, они честолюбивы, как все политики, но говорить об их предательстве — недобросовестность, если не сумасшествие. Разве в политике не приходится уступать? Взгляните на карту Европы: где тут справедливость? Вся карта в крови. Половина границ режет по живому. Что сделали с Венгрией, с Австрией, с Германией? Это — калеки без рук и без ног, они в кандалах, но они живут и процветают; да-да, изувеченная советская Венгрия — тоже, в отпущенных ей границах, географических и политических, живет почти нормальной жизнью; недаром она фасад социализма. Даже при социализме венгерская салями — лучшая в мире… (или: лучший? в венгерском языке, как и в эстонском, нет грамматического рода). Но усредненный русский оле (репатриант) был свиреп до полного неправдоподобия. Это был какой-то еврейский Пуришкевич, требовавший: «всех арабов — по гробам!». Разве мы (спрашивал я себя) — не старшие братья по отношению к арабам? В качестве таковых — разве не должны мы быть снисходительны? (Вероятно, такова была и логика левых израильских политиков.)
Те, кто имел склонность к рефлексии, говорили:
— Шимон Перес в одном виноват: не понимает, что лидерство в партии Маарах он должен уступить Рабину. С такой рожей Переса никогда не изберут.
Конечно, всякий политик не только о благе родины печется, он еще и своим амбициям потакает, но опять его не упрекнешь: это — в природе ремесла, в природе политического темперамента; дорожишь чистой истиной — не покидай кабинета. В споре на людях своё можно отстаивать только через себя.
Дважды, всего дважды был-таки Шимон Перес премьером; оба раза — на короткий срок; оба раза — не как прямой и однозначный избранник народа, а в результате стечения обстоятельств и компромиссов. Не ушел с политической арены и в старости. В 2007 году был избран президентом Израиля; в юбилейном 2008 году — встречал у трапа самолета королеву Елизавету… Ни на минуту я не думал об этом человеке дурно; встречался с ним и руку ему подавал без отвращения (в ходе предвыборной кампании меня вовлекали в делегации от русских репатриантов; за это, за улучшение условий нашей жизни, я бороться соглашался). Но верно и то, что человеком располагающим Перес никогда мне не казался.
Выборы состоялись 23 июня 1984 года. Партия Маарах (Шимона Переса) на полноздри обошла партию Ликуд, которую возглавлял Ицхак Шамир, сменивший Бегина. Всего партий было — 27… по другому счету — даже 35. Ни про одну я не слыхал до приезда в Израиль: ни одной идеи, ни одного имени не держал в голове. Где ж тут голосовать? Но русскоязычная газета Иерусалимский курьер, возникшая как раз перед выборами, началась с передовицы под названием Выборы — а выбор невелик, написанной держателем книжной лавки Изей Малером. Редактором газеты была Эмма Сотникова, приятельница Наташи Марковой. Газета поразила меня развязным тоном, отсутствием строгости — и, конечно, россыпью еврейских слов, написанных кириллицей. Это был какой-то местечковый семейный междусобойчик. Разве так мы понимали печатное слово? Спасибо большевикам: в их заповеднике, в их Беловежской пуще передвижников и шестидесятников, в теплице идей XIX века, — гутенберга мы уважали сверх всякой меры, до абсурда. Оттиснутое слово отправлялось прямо в вечность…
Историческая правда оказалась на стороне Сотниковой и ее газеты, просуществовавшей месяца два. С наступлением свобод в России — развязность и местечковость хлынули в российские издания. Но даже и в ту пору невозможно было вообразить себе того унижения, которому в XXI веке подверг русское слово интернет.
Выборы, как всегда бывает в Израиле, разочаровали всех; 13 сентября 1984 года, под проклятия русских израильтян, Шимон Перес возглавил правительство национального единства — с тем, чтобы через два года, по соглашению о ротации, уступить место главе Ликуда Ицхаку Шамиру. Этот вождь тоже, казалось, ничьей симпатии не вызывал. В юности он геройствовал в еврейском палестинском подполье. Левые, не без некоторых оснований, называли его террористом и даже убийцей… а я отказывался формировать свое отношение и к нему; видел только смешного маленького человечка с топорщащимися усами. Шипов рассказал о нем анекдот. Приходит Шамир в ресторан в Америке и спрашивает официанта:
— Do you serve shrimps?
А тот ему вежливо отвечает:
— We serve everybody, sir.
Тут непереводимая игра слов. Герой интересуется: есть ли у вас в меню креветки (подаете ли вы креветки)? Но совершенно так же будет звучать и вопрос: обслуживаете ли вы креветок? Именно это услышал официант, взглянув на Шамира; и ответил: мы обслуживаем всех. Мы хохотали до слез… отчасти потому, что нам не хватало английского. Shrimp по-английски — не только мелкая креветка, но и сморщенный человек, карлик, козявка, ничтожество.
Пост министра репатриации и абсорбции в правительстве национального единства удержал Давид Леви, человек правого толка, выходец из Марокко. Вот кого русские поносили на все лады несмотря на его правоту! «У него нет высшего образования! Он и школу-то не кончил!» Как будто вождю или пророку нужен диплом. Дарвин и Фарадей обошлись без высшего образования; Жан-Жак Руссо никогда не ходил в школу, не говоря об университете. Но Леви, действительно, был человек особый. В Израиле, где, по не совсем точной ходячей присказке, каждый знает четыре языка (иврит, идиш, английский и родной), министр Леви, по слухам, знал только иврит и совершенно точно не знал английского. В связи с этим рассказывали другой анекдот, тоже игровой, в духе первого. Приходит будто бы Леви в бар в англоязычной стране; бармен его спрашивает:
— Марти́ни?
А министр его поправляет:
— Ло, мар Ле́ви. — То есть: «Нет: я — господин Леви».
Не моего ума дело — вот я что твердо знал насчет израильской политики. Я приехал сюда жить, а не протестовать и бороться; отпротестовал свое в СССР. Все вожди были мне несимпатичны, но и деваться было некуда: на дворе демократия, которая хоть и наименьшее, а — зло. Когда она работала плохо, первый премьер-министр Израиля Давид бен-Гурион (1886-1973) обычно возражал недовольным: «У меня нет для вас других евреев».
Улицы в Израиле, если не все, то многие, названы в честь великих людей прошлого. Это напоминало мне Советский Союз — и не нравилось. Тут пахло идеологией, хуже того: конъюнктурой. На фоне будничной рутины — это раздражало, даже злило. У тебя денег нет, всё не ладится, жизнь сквозь пальцы уходит, ты пребываешь в полной растерянности (главным образом, перед самим собою), а названия громыхают о чем-то отвлеченном, куда-то зовут… Десятки раз я отправлялся «на рехов Алкалай», на улицу Алкалая, раз или два в моем сознании брезжил вопрос: откуда это название? Но заглянуть в энциклопедию было некогда, текущие заботы сидели на загривке, творческого, мечтательного досуга не хватало (его и всегда мне не хватало, на протяжении всей моей жизни, а в первые месяцы в Израиле — особенно)… Оттого-то мы все и свободны в детстве (даже при полной зависимости от родителей и школы), что там этот досуг случается, гарантирован нашей социальной защищенностью. В детстве — и, случается, в старости… Когда я заглянул в энциклопедию, выяснилось любопытное: жил да был раввин Егуда Алкалай, родился в Сараеве в 1798 году (в год египетской экспедиции Бонапарта), умер в Иерусалиме в 1878 году; говорил и делал практически то же, что Теодор Герцль: то есть был первым, самым первым сионистом, только время еще не пришло… Бонапарт в нашем сознании преспокойно идет в обнимку с Пушкиным, они примерно одного роста, а вот как тут еще Алкалая под руку взять? Об этом призадумаешься, спускаясь по улице Бальфура от Французской площади в сторону улицы имени раввина…
На улице Алкалая находился Центр информации о положении советских евреев: три, много четыре крохотных комнатки — и замечательные люди. О Саше Шипове уже сказано, он был в числе основателей этого общественного предприятия. Вторым для меня шел Юра Штерн; им я тоже восхищался, не мог не восхищаться. Бывший москвич, математик и экономист, моложе меня тремя годами (в 1984-м ему было 35 лет), он, как и Шипов, умен был необычайно — и так же прост (не заносчив); тоже отдавал все свои силы, всё свое свободное от работы время, помощи отказникам и советским евреям вообще. Превосходное образование, современный критический ум, живость, остроумие, бескорыстие в соединении со служением делу несомненному — всё в нем подкупало, всё нравилось. Он свободно говорил на иврите и по-английски, слушать его было — одно удовольствие… Иные скажут, что через упомянутое мною бескорыстие, через дело несомненное он потом вышел в большую политику, в дело сомнительное, политик ведь никогда вполне не бескорыстен, но мы это отложим; это разговор долгий, а я говорю о том, что я видел и чувствовал в 1984 году. Ни тени разочарования в Штерне не испытал я и в последующие годы. Его ушастая физиономия с лукавой улыбкой стоит перед моим мысленным взором… но обнять некого: он умер в 2007 году, 58-и лет от роду.
Во главе центра стоял Иосиф Менделевич, узник Сиона, верующий еврей, в черной шляпе, с пейсами; его я видел только мельком, ни разу не говорил с ним; тут был культурный барьер, мне мешавший. В Шипове и Штерне как раз то подкупало, что они оба принадлежали светской культуре, без примеси средневековья. Насчет Шипова я здесь, положим, несколько обманулся; в XXI веке увидел его уже в кипе. Мне не следовало бы этому удивляться. У него не было еврейской бабушки по материнской линии; по галахе — он, на три четверти «еврей по крови», не считался евреем. Шипов этой своей особенности не скрывал, я знал о ней с его слов, но я не сознавал, до какой степени это его тревожило; вероятно, он прошел посвящение (гиюр) по полной форме. Фамилия, к слову сказать, тут ни при чем; она — от партийной клички его деда, еврея несомненного.
Всё рутинную работу в центре делали Шипов, Штерн, Володя Глозман, Сёма Азарх и другие, по большей части бывшие москвичи, молодые люди лет тридцати с небольшим. Работа состояла в распространении сведений, в разъяснении ситуации в СССР (в разоблачении кремлевской лжи), она требовала встреч с влиятельными людьми в Израиле, Европе и США, организации помощи заключенным и отказникам, привлечении средств от правительств и благотворительных организаций. Эта работа шла много дальше того, что можно извлечь из подчеркнуто скромного названия группы: Центр информации. Иным несчастным, я думаю, эти люди самую жизнь спасли, других избавили от нищеты, третьим помогли выехать. Все энтузиасты были между собой равны, в общении отличались необычайной простотой и открытостью; шутка, постоянно сопутствовавшая делу, не мешала серьезности в главном. Встречи с воротилами мировой политики, часто туповатыми и всегда ангажированными, не посеяли в сердцах этих людей надменности или самолюбования. Со мною и мне подобными, с лишенцами без иврита и твердой почвы под ногами, они вели себя по-товарищески, помогали нам словом и делом, от трудоустройства до раздачи одежды из каких-то благотворительных посылок. Повторю до оскомины: я восхищался Шиповым и Штерном; они были лучшей, самой светлой и привлекательной физиономией многоликого Израиля… Нравился мне и Володя Глозман, которого я знал мало. Потом выяснилось, что писал стихи, притом хорошие; я сразу выделил его из легиона тамошних стихотворцев.
Вход в центр был не с парадного крыльца дома, а сбоку, что еще больше подчеркивало народный, общественный характер предприятия. На входной двери, всегда открытой, одно время висел типографским образом отпечатанный плакат со словами: Mother Russia, let me be an orphan («Россия-мать! Позволь мне быть сиротой»). Смысл этой язвительной, а для меня и горькой, шутки как нельзя лучше передавал изумительный юмор Саши Шипова. Я был просто убежден, что это его выдумка; годы спустя — спросил и получил отрицательный ответ, но остаюсь при своем: пусть эта находка и не принадлежит ему; не сомневаюсь, что на его счету — десятки подобных…
Шипов остался верен своей профессии. В политики, в деятели и руководители — не пошел совершенно сознательно, хотя ничто ему не препятствовало. Между тем Центр информации начал перерождаться по законам Паркинсона. Переименованный в Сионистский форум, он переехал на улицу Дискина, в громадную дорогую квартиру с балконом величиной со спортивную площадку и видом на Кнессет. В новом помещении — был зал заседаний, не требовавшийся на улице Алкалая. В этом зале, во главе стола, в роскошном вертящемся кресле, я, при одном из первых моих визитов, не без удивления увидел Сёму Азарха в позе начальника… Вникать в перемены я не стал. Дух равенства и демократии не вовсе выветрился с появлением у вчерашних добровольцев денег, структуры и должностей. Основное дело — делалось; отказникам и другим бедствовавшим по-прежнему помогали.
На улице Дискина случались вечеринки с танцами (среди вовлеченных в работу преобладала молодежь). Там я впервые в жизни увидел настольный IBM-овский компьютер с русским процессором, с возможностью писать тексты по-русски… и у меня от этого руки затряслись: вот чего мне недоставало в жизни! (Только клавиатуру, думалось мне, я никогда не освою: сколько на ней функций предусмотрено!)
Случались и забавные происшествия… Разве не в происшествиях отпечатывается время? Проспер Мериме пишет, что отдал бы всего Фукидида за подлинные мемуары Аспасии, потому что в жизни ценит больше всего сцену, эпизод, анекдот; именно в них, как в капсулах, заключен дух эпохи, ее сокровенная сущность. Я всю жизнь не расставался с Фукидидом; за него — отдал бы Мериме и еще многое, но мемуары Аспасии… Никогда не написанные; невозможные (не было такого жанра; греки создали каркас всей нашей светской культуры за исключением жанра дневниковых записок частного человека), — не только Мериме, а и Анабазиса, и всего Ксенофонта с Геродотом я принес бы за них в жертву почти без сожаления. Но не Фукидида…
В контору на улице Дискина дверь всегда была заперта, необходимо было звонить. Открывала секретарша Роза Финкельберг, кто-нибудь из своих или гостей. Один раз открывает Шипов дверь и видит на пороге хорошо всем нам знакомого Валеру Сорина, молодого человека, уже обжившегося в Иерусалиме, духом и телом крепкого, бывшего тяжелоатлета, у которого, однако, случились семейные неприятности с большой нервотрепкой: развод или что-то в этом роде. Едва поздоровавшись и переступив порог, Валера Сорин спрашивает Сашу:
— Послушай, ты не знаешь, случаем, как найти Валеру Сорина?
Саша понял, что дела плохи.
— Ты, — говорит он гостю, — сядь и выпей воды. Не волнуйся!
Засуетился, принес пластиковый стакан с холодной водой, вещь в израильских конторах обычная, при тамошней жаре совсем не лишняя… но беспокоился зря. Сорин тотчас объяснил ему, что разыскивает своего полного тезку, другого Валеру Сорина…
Выпустили из тюрьмы и отпустили в Израиль Натана Щаранского… Этого человека я уже и вблизи толком не видел, он пролетал мимо в окружении свиты. Тут сразу пошла большая политика; Щаранский оказался во главе всего русско-еврейского дела в Израиле, в том числе — и во главе бывшего Центра, а теперь Форума на улице Дискина… Кстати, этот Моше Дискин (1817-1898) тоже был сиониствовавшим раввином, но, на мой вкус, несимпатичным: проклинал всех, кто хоть на йоту отступал от ортодоксального еврейства (включая хасидов), а светских евреев с их общечеловеческой культурой — евреями считать отказывался, подвергал их отлучению, в еврействе вообще не очень обычному.
В 1697 году некто Петр Толстой, стольник, обучался морскому делу в Венеции и оттуда отправился «в каботажное» (то сеть во внутренних водах) плаванье по Адриатике. Так обычно называют его плаванье. Он, точно, учился искусству навигации, но втайне мечтал еще поклониться мощам святого Николая Мирликийского, будущего Санта-Клауса, самого почитаемого, самого народного святого на Руси. Мощи святого находились в приморском городе Бари, в неаполитанских, то есть уже в испанских землях. Справа по борту от Толстого лежали другие государства. Плаванье, иначе говоря, не было каботажным. Идея единой Италии решительно никому в голову не могла прийти. Скажи кто-нибудь, что венецианцы и неаполитанцы — один народ, современники бы на него как на идиота посмотрели.
Но пусть мы, сквозь призму будущего, видим Италию единой; плаванье Толстого всё равно не становится от этого каботажным; Турция начиналась на Адриатике, в трехстах километрах от Венеции (а от Вены — хоть это и не совсем к слову — в ста километрах). Когда Толстой добирается до Мальты, Турция опять была у него под боком, на запад от Мальты и Сицилии, в двухстах пятидесяти километрах, в Тунисе. Алжир тоже был турецкий; Турция почти до Гибралтара доходила. На севере мусульманская держава простиралась до устья Дона, на юго-востоке — до Персидского залива и Индийского океана. Египет, Сирия и Палестина с Иерусалимом тоже, естественно, ей принадлежали. Стены вокруг Старого города Иерусалима — турецкой постройки XV века (согласно легенде, их строитель лишился головы за то, что по недосмотру не включил в черту Иерусалима гору Сион). Держава была хоть куда… Какая держава? Османская империя. Так — по-русски; так ближе к тексту, к звуку имени основателя империи и династии, к Осману I. Западное Ottoman — дальше от текста, но пусть бы оно и ближе было: сказать по-русски Оттоманская империя нельзя. Точнее, очень даже можно; сплошь и рядом так именно и говорят, и пишут, рабски калькируя английский язык; можно, да неправильно. Что Сион в черту Старого города не попал, до этого мне дела нет, а за различие между словами Османская и Оттоманская — голову положу… Так я думал в ту пору и позже. Но это цветочки.
Израильские автобусы после советских казались дворцами света и воздуха на колесах. Они были прочны, просторны, комфортабельны. Междугородные — особенно, тут ты в мягком вагоне ехал, но я сейчас о городских говорю. Всё в них было современное, новое; двери не в дурацкую гармошку складывались, мешая входу и выходу, а выдвигались: сперва чуть-чуть отодвигались наружу, а потом плавно ложились на внешние стены автобуса, чтоб людям не мешать; геометрия одновременно простая и мудреная. В автобусах иногда приходилось стоять, случалось и в тесноте ехать, а вот давки советской — никогда не случалось. Поведение водителей поражало больше, чем техника: никогда они не закрывали дверь перед носом человека. Если кто-то заболтался и забыл выйти, то ради такого ротозея автобус, уже отъехавший от остановки, снова останавливался, и дверь отворялась — стоило только крикнуть:
— Нехаг, рега! (Водитель, секунду!)
А вот что совершенно меня потрясло в иерусалимском автобусе: человек, не казавшийся глубоким стариком, с пятизначным номером, наколотым на руке, между кистью и локтем. Уцелевший узник Освенцима, Майданека или Треблинки… Не верилось, что этот непредставимый ужас — так близко. Ханна Арендт, под неодобрительное шиканье тех, кто не привык думать, произнесла страшную формулу о банальности зла (banality of evil), но по-русски она, формула, словно бы неполна, слово зло куда слабее слова evil. В эту формулу многое хочется запихнуть, подпереть ее представлениям об уютной, домашней обыденности людоедства… Стоит человек, держится за перекладину, а на руке — номер. Что тут такого? Никто глаза на него не пялит. Люди привыкли. Потом я и других видел с номерами.
Здесь, однако ж, и еще один вопрос встает, в соседстве с первым, с вопросом о нечеловеческой (или как раз человеческой) жестокости, ничтожный, даже дурацкий: Освенцим или Аушвиц? Вопрос человека, потерпевшего культурное кораблекрушение. Никто вокруг этим вопросом не задавался: только я. У всех приехавших западное словечко теснило и почти вытеснило русское, привычное. Я от этого в бешенство впадал: получалось, что язык ничего ни для кого не значит. «Зачем угодничаете перед Западом?», хотелось — да иной раз и удавалось — мне крикнуть; а люди искренне не понимали моей горячности… да что горячности: большинство вообще не понимало, о чем я бренчу… До самого начала XXI века я так и дожил, не усомнившись в своей правоте. Сейчас допускаю, что был неправ; что русский вариант названия утвердился в моем сознании под влиянием советской тенденции. Город, о котором речь, исторически — больше польский, чем австрийский; а концлагерь был немецкий, и немцы называли его Аушвиц…
Но главное и самое страшное наступление на мою родину шло отнюдь не с Запада. Оно висело в воздухе, как хамсин, только ежедневно; оно с каждым деревцем, с каждой былинкой поднималось от земли, по которой я ступал; оно приветливо улыбалось мне — в глазах всех и каждого, больше всего — в глазах людей симпатичных, тех, кого я успел полюбить… Приходит человек к мисраду и видит на двери приколотый клочок бумаги, на котором написано кириллицей:
— Сегодня швита. Метапелет не будет. («Сегодня забастовка. Социальной работницы не будет».)
Как жить дальше? Какая стойкость требуется, чтобы продолжать сражаться за родину… или так: какая тупость? Не за Россию, конечно. Что за нее сражаться? Гори она огнем; такой страны и на карте-то не было; СССР — не Россия… За Пушкина; за русскую просодию; за родные звуки, без которых меня попросту нет… Какое одиночество!
Едва отдышавшись и оглядевшись, я принялся писать письма. Первым делом написал в Лондон, ученой даме Саре Уайт по поводу Владимира Белянина, моего оппонента по диссертации. В 1983 году Белянин потерял работу — как он утверждал, вследствие интриг партийного руководства Академии наук. Мне казалось, что речь идет о жизни Белянина (как жить, если нет заработка?) и что гонения на него носят идеологический характер. Писал я доктору Уайт 25 июня 1984 года. Писал по-русски (Белянин уверял, что она знает русский язык). Копия моего письма сохранилась. Корреспондентка не откликнулась.
Через день я написал первое литературное письмо: в Германию, Борису Хазанову (Г. М. Файбусовичу; тогда его адрес читался так: c/o H. von Westphal, Akilindastr 7, 8032 Gräfilfing, BRD):
Решаюсь беспокоить Вас, многоуважаемый Геннадий Моисеевич, по совету (и с рекомендацией — к сожалению, устной) Г.С. Померанца, с которым я расстался в Ленинграде в конце мая. Григорий Соломонович полагает возможным мое участие в Вашем и К. Любарского журнале. Пожалуйста, рассмотрите эту возможность и сообщите мне Ваше мнение. Составить представление обо мне как авторе Вы можете по изданному мною в Париже двухтомному Собранию стихов В.Ф. Ходасевича (1983) и по стихам, опубликованным в Континенте №29 (1981); возможно, были и другие зарубежные публикации, о которых мне неизвестно. Я печатался и в СССР, в 1972-75; там было, кажется, 9 журнальных публикаций, в Ленинграде, Москве и провинции, — впрочем, прошедших совершенно незамеченными. Наибольшей известностью пользуется статья о Ходасевиче, вошедшая в двухтомник.
В Израиле мы живем чуть больше недели и еще не вполне оправились от эмиграционного шока. Рукописей при мне пока нет. Первое, что хочу предложить Вам (сразу по получении и в случае Вашей заинтересованности) — моя статья о покойном Владимире Лифшице, поэте и переводчике. Затем это могут быть мои стихи.
Я не был близким другом Г.С. Померанца: мы познакомились лишь около года назад, встречались и беседовали считанное число раз. Оба, Г.С. и З.А., доброжелательно отозвались о моей работе, что и дает мне смелость писать Вам.
К сожалению, из Ваших трудов я прочел (в машинописной копии) лишь один, и далеко не главный: Новая Россия. Очень надеюсь рано или поздно прочесть и другие. Неуспех нашего сотрудничества не помешает мне быть Вашим читателем, успех — должен, я надеюсь, способствовать этому. Примите искреннейшее выражение моей к Вам симпатии.
В таком же сдержанно-бешеном светском тоне я писал и другим литераторам.
«Другие зарубежные публикации, о которых мне неизвестно», действительно, обнаружились: стихи в парижской Русской мысли и в израильском альманахе Кинор. «Ваш и К. Любарского журнал» — Страна и мир, которого я в руках еще не держал (иначе бы не предлагал туда стихов). Это общественно-политическое обозрение начало выходить в 1984 году, за несколько месяцев до моей эмиграции.
Хазанов ответил 10 июля 1984 года:
…Я посылаю Вам два последних номера журнала, чтобы у Вас было о нём некоторое представление. У нас нет сомнения в том, что Вы могли бы стать постоянным автором нашего журнала. Мы платим гонорар из расчета около 500 нем. марок за печатный лист (22-24 стр. стандартного машинописного текста). К сожалению, наш журнал не художественный, поэтому мы не печатаем беллетристику и стихи. Однако я с удовольствием бы познакомился со статьей о Вл. Лифшице, которую Вы упомянули… Ваша статья-исследование о Ходасевиче, которую я высоко ценю, даёт мне основания надеяться, что и другие Ваши работы окажутся на столь же высоком уровне, так что единственное ограничение — это объем. Одновременно хочу сделать вам несколько встречных предложений… Не могли бы Вы — как свежеприбывший россиянин — написать для нас что-нибудь о нынешней литературной или общекультурной ситуации в СССР (конкретная тема — по Вашему выбору)? Не заинтересует ли Вас предложение вести в журнале что-нибудь вроде отдела литературной критики (художественная проза или поэзия в СССР и за рубежом)? Наш журнал распространяется в Европе и Америке; значительная часть тиража идет в Россию…
Сейчас спрашиваю себя: как я мог тогда не принять предложение вести в журнале критическую рубрику?! Оглядываясь, человек видит лишь ошибки (или, если угодно, руины: по классику). Мне в руки шел верный, хоть и скромный доход, да плюс почетная известность. Но принять я не мог. Во-первых, я самым честным образом намеревался сделаться евреем, израильтянином; органически войти в еврейскую жизнь, потеснив в себе жизнь русскую — то есть работать, что называется, по профессии, а не русской литературой кормиться; под письмом в журнал я, хм, расписался на иврите. К этой жертве, к растворению в еврействе, меня побуждал не столько чужеватый мне сионизм, сколько благодарность Израилю. Нужно ли говорить, что тут я в итоге потерпел полное поражение? Моя жертва была отвергнута. Жертвовать нужно всем сердцем, а не половиной; боги ревнивы. Во-вторых, я привык работать над прозаическим текстом долго, как над стихотворением: вглядываясь не только в смысл, но и в звук сказанного; выверяя каждую фразу — чтобы, упаси Бог, какой-нибудь хиатус не вкрался; тексты-то мои, как мне чудилось, сразу в вечность уходили — до востребования в небесной России, которая будет. В-третьих (хоть это отчасти продолжает второе), я хотел от каждого текста точности и полноты прямо-таки научных, окончательных, незыблемых, да еще и композиционной стройности. Ни за что не смог бы я писать в ту пору, как пишу сейчас, чуя за спиной дыхание жареного петуха. Я отказывал себе в драгоценном праве на ошибку, без которого ничего не напишешь (не понимал, что ошибка всё равно неизбежна); жертвовал химере точности и полноты легкостью, метафоричностью. Тем самым я обрекал себя на мучительное, без преувеличения скорбное молчание, притом что мысли, не находившие лазейки, не воплощаемые (и потому не казавшиеся мне мыслями), меня переполняли…
Второе предложение, написать «о ситуации в СССР», я принял. Результатом стала большая статья Острова блаженных: Вторая литература и самиздат в Ленинграде (Страна и мир № 1-2, 1985), вышедшая с невероятным количеством редакционных искажений. Наслаждение, с которым я принялся за статью, неописуемо: впервые в жизни я писал по заказу журнала, притом серьезного, международного, и — за вознаграждение. Писал я, как писал Айдесскую прохладу: карандашом, микроскопическим почерком, держа под рукой стиральную резинку.
С Хазановым я подружился на долгие годы, хоть эта дружба и не стала безоблачной; бывал у него в гостях в Мюнхене, а он гостил у нас. Еще до личного знакомства Хазанов попал у меня в число трех китов: трех лучших стилистов среди прозаиков русскоязычной ойкумены. Вторым оказался Феликс Розинер (1936-1997), а вот кто был третьим? кто был третьим… смешно сказать: Воронель… Писавшие в столбик — те в счет не шли, тут разговор особый; а в строку, прозой, — почти все вокруг писали неубедительно.
С Кронидом Любарским, другим редактором Страны и мира, известным правозащитником из ученых, я совсем не подружился; спустя несколько лет мы вконец разругались после обмена язвительными письмами. Номинально Хазанов и Любарский, оба отсидевшие в ГУЛАГе, хоть и в разные эпохи, были равноправными соредакторами журнала. На деле все называли Страну и мир журналом Любарского. Была еще должность третьего соредактора. Сначала ее занимал Сергей Максудов (Александр Бабёнышев), человек с украинскими интересами; затем, сколько помню, израильтянин Вадим Менакер, бывший москвич; вслед за ним — иерусалимец Рафик Шапиро, мой сосед по Гило, журналист из Баку, писавший под псевдонимом Р. Бахтамов. Обоих израильтян я знал — и не знал, которым больше восхищаться, так оба умны были.
В пятницу 29 июня я начал эпистолярное освоение США — с литературоведа Александра Адриановича Левицкого (23 Ray Street, Providence, R.I., 02912):
Дорогой Саша,
вот уже десять дней как мы живем в Иерусалиме… Меня очень беспокоит судьба моих сочинений, которые Вы в конце прошлого года вывезли из СССР. Одно из них, макет книги под названием Ex Adverso, так и не был получен моим канадским другом Анной Гольдберг, чей адрес был написан на врученном Вам конверте. Второе, макет книги под названием Кентавромахия, И.Ф. Мартынов передал Вам еще до нашего знакомства. Вы бы бесконечно одолжили меня теперь, выслав мне ксерокопии как первого, так и второго сборника, — разумеется, за мой счет.
Мартынова я оставил в ужасном состоянии. 17.06.84 он объявил бессрочную голодовку с требованием работы по специальности и квалификации, а в случае невозможности предоставить таковую — выезда из СССР. Конечно, психика его всерьез расстроена. Мне непонятны его надежды переиграть КГБ на чужой территории, вообще — многое в нем непонятно; но по-человечески я ему сочувствую и стараюсь помочь. У Мартынова есть к Вам претензии. Он жалуется, что Вы ему не отвечаете. Что касается переданных Вам его книг [антикварных], то идея Мартынова (насколько я мог ее понять) такова: продать часть из них, примерно на $1500, и перевести их в СССР в 6000 рублей — чтобы он смог выплатить присужденные ему алименты на сына. Как перевести эти деньги, он мне не объяснил, точнее, не указал конкретного канала. Он полагает, что нетрудно найти небогатых американцев, имеющих состоятельных родственников в России, и, под честное слово, вручить здесь доллары, чтобы там отдали рубли, — в отношении 1:4. Напишите мне, что вы думаете о Мартынове и его планах. Может быть, Вы понимаете этого человека лучше, чем я.
И последнее. Если помните, еще в России меня интересовала возможность издания на западе книги моих стихов. Не поможете ли мне в этом? По-прежнему ли русская типография университета находится в Вашем распоряжении? Понимаю Вашу занятость и не жду от Вас слишком многого. Я и без того в долгу перед Вами за вывезенные рукописи. С нетерпением жду возможности вернуть этот долг, а вместе с нею — и Вашего ответа. Почтительно…
Александр Левицкий занимался русской духовной лирикой XVIII века в Брауновском университете (Brown University, Providence, Rhode Island 02912, Department of Slavic Languages). В Ленинграде мы виделись два-три раза, у Ивана Мартынова. Левицкий ответил 8 июля. Оказалось, мои рукописи шли через американское посольство. «Буду Вам очень благодарен, если Вы оставите за мной право опубликовать Ваши "опыты духовной лирики"», — писал Левицкий. Действительно, такой цикл был мною составлен. Не знаю, опубликовал ли его Левицкий. По жанру это жалобы и вздохи о моем человеческом несовершенстве и несовершенстве божественного творения, с элементами теодицеи, — Левицкому же, вероятно, требовалась лирика прямо православная, с частым упоминанием имени Творца и обилием ангелов, бродящих под русскими березками и липами в Липецке. В Ленинграде, проходя мимо кладбища, он, по словам, Мартынова, слышал стоны, исходившие от могил.
Левицкий писал мне, что за ним в Ленинграде шла постоянная слежка, не позволившая ему навестить многих друзей, и объяснял слежку контактами с Мартыновым. Его слова о Мартынове не противоречили моим догадкам. Мое письмо застало его перед отправкой в отпуск: «Я выезжаю на пять недель в Швецию в конце этого месяца, так что пишите туда. Адрес: A. Levitsky, Eskåslund, 3603 Lammhult, Sverige. Надеюсь, что Вы скоро привыкните к новой жизненной обстановке и что мы сможем в скором будущем возобновить наше знакомство лично…» Из США ехать отдыхать в Швецию?!
Обе надежды не сбылись: моя — на издание книжки в типографии Брауновского университета, и наша общая — на продолжение знакомства. Всё равно: спасибо Левицкому. Стихи свои я все знал на память, мешали только варианты, наслоения; смог бы, вероятно, со временем восстановить их и без вывезенных Левицким бумаг, — но всё равно: бумагам цены не было, вся моя бездомная душа содержалась в этих жалких листках, отражена в них… Как объяснить это тому, кто не пишет?
В голодовку Мартынова я не верил… вообще мало ему верил. В Риге, в тюрьме, в это самое время голодал Захар Зуншайн, голодал по-настоящему, потерял 17 килограммов за десять дней. Мартынов всегда был тучен — и не приходило сообщений о том, чтобы он похудел. Мартынов будто бы начал голодать в день моего отъезда. По его словам, дошедшим ко мне уже в Израиль, он связывал свою голодовку с голодовкой Зуншайна, но это последнее не укладывалось в сознании, не казалось добросовестным.
Восьмого июля 1984 года я писал нашим друзьями Гале и Грише Эпельманам в Вирджинию:
…На ваш первый подразумеваемый вопрос: почему мы по эту сторону Атлантики, а не у вас, отвечу, что и время теперь другое, и мы — другие. Получи мы разрешение сразу и/или в период массовой эмиграции, мы бы, конечно, поехали в Штаты; но четыре года в отказе сделали свое дело. В Ленинграде сейчас 10 тысяч отказников. Общественное мнение в Израиле (и в других местах) не расположено к ним; ждут, что в случае выкидыша многие поедут мимо. Некоторые спекулируют на этом. Я даже не исключаю, что нас выслали отчасти в надежде на то, что мы, махнув на Запад, дадим милухе еще один повод для злорадной ухмылки. Мы осуждаем тех, кто предписывает беженцам направление бегства, но вынуждены с ними считаться. Фанатическими сионистами мы не стали, и обольщаемся не слишком. Но мы благодарны этой маленькой и великой стране, в которой не всё благополучно и не всё нам нравится, но которая — кто знает? — может быть и станет когда-нибудь нашим домом; мы обязаны ей не одной только свободой, но и жизнью, я уверен в этом. Наконец, даже отложив в сторону моральные обязательства, мы просто считаем, что здесь нам будет лучше: не проще, а лучше…
Эти же слова мы произносили и в нашем новом окружении: не ослеплены, не всем восхищаемся, вживаемся тяжело, но не упускаем из виду главного. Мы обязаны свободой этой маленькой стране — под таким названием в 1986 году выйдет у меня статья на иврите (в переводе с русского). Стихи, когда они, наконец-то, начали проклевываться в августе 1984 года, тоже были об этом:
|
Настанет минута, и я полюблю Блаженной и полной любовью, Израиль, и терпкую землю твою, И волю, вспоённую кровью. |
Это стихотворение так и осталось в наброске. Даже прямому ретрограду, каковым я с гордостью себя выставлял, было ясно, что рифму кровь–любовь нужно обеспечить большей кровью и большей любовью, чем тут; иначе она мертва. Ударение в слове вспоённую калькировало пушкинское вскормлённый — и не казалось правильным. Весь четвертый стих отдает тут двусмысленностью; мерзавец спросит: чьей кровью? Стихотворения не получилось; наброска не стыжусь.
Дальше в письме к Эпельманам я сообщаю, что «у Лизы нет улучшения, которого мы ждали сразу, в порядке чуда», Таня пока чувствует себя неплохо, а сам я надеюсь «определиться программистом средней руки», каковые здесь получают «по 500 долларов в шекелях». Чудо с Лизой вскоре произошло; даже два чуда. Нейродермит прошел практически бесследно, позже возобновлялся лишь в других климатах; но еще когда он не вовсе исчез, вдруг появились у нее на руках бородавки, сильно затруднившие общение со сверстниками. Тут приехала в Израиль Лотти Герц с мужем (у него было странное имя Goudi… или мне почудилось?) и позвала нас к себе в гостиницу. Узнав, что муж ее — педиатр, Таня пожаловалась на новую лизину беду, а тот сказал по-английски:
— Предвижу, что это покажется вам странным, но сам я знаю только одно средство: прекратить думать о бородавках, забыть о них.
Разговор происходил в роскошном вестибюле гостинцы, казавшейся нам дворцом; нас угощали чем-то дорогим и лишним, мы утопали в мягких креслах — и чувствовали крайнюю неловкость. Мешало и то, что нас опекают малознакомые люди, и то, что вся эта роскошь — не для нас, навсегда не для нас… а тут еще эта нелепая рекомендация. Тоже мне врач! Уж молчал бы уж… Но совету Таня и Лиза последовали, постарались о бородавках забыть — и через десять дней бородавки исчезли.
Тане израильские врачи вскоре подобрали таблетки против гипертонии, которые она потом принимала десятилетиями. Страшные приступы с головными болями стали случаться реже. Она больше не балансировала на грани гипертонического криза. Другие головные боли появлялись только в хамсин, когда из пустыни приходил и стоял без движения воздух, полный мелкой взвеси. От Роальда Зеличонка мы еще в Ленинграде слышали две мудрости (или, если угодно, две хохмы: хохма как раз и означает на иврите мудрость): во-первых, у арабов заведено, что если муж убивает жену во время хамсина, то закон его оправдывает; во-вторых, мы, новые репатрианты, на три года освобождены в Израиле от налогов… и от хамсинов. Вторая мудрость не подтвердилась. Налоги начались для нас вместе с работой, в феврале 1985 года; хамсины — для Тани — сразу, а для меня — никогда не начались; я их просто не замечал.
В том же письме к Эпельманам есть приписка: «Раисе Львовне [Берг], если будет с нею контакт, поклон. Я всегда помню, что мой первый вызов (от Виктора Кагана) был получен благодаря ее усилиям. С Виктором Каганом я уже виделся»…
Я благословлял судьбу: с какими замечательными людьми она меня невзначай сводит; как тесен — в самом благоприятном смысле — мир! Виктор Каган (он жил в Иерусалиме, в районе Неве-Яаков, 417/33), ученый и писатель, сокамерник Солженицына, поддерживал меня своими письмами в Ленинград; теперь я имел возможность поблагодарить его, что и сделал с большим душевным подъемом.
Начали приходить в центр абсорбции письма из Ленинграда; они, такие обыкновенные, в невыносимо пошлых советских конвертах, где на первом месте шла страна, а имя человека — на последнем, казались чудом; не передать, с каким трепетом вынимал я их из ящика под литерой куф в нашем мисраде. Одним из первых пришло письмо от Иры Рутман:
«Без вас очень плохо. Забываюсь и звоню по вашему телефону, а ваш квартал объезжаем стороной [у них, редкое дело в те дни, была своя машина] — сердце так и ноет… Я составила список книг [наших, оставленных; часть из них мы получили только в 1990 году] и собираюсь идти в Публичку [за разрешением отправить их за границу]… Теперь о делах. Договор идет в соотношении один к четырем. Я пыталась, конечно, воззвать к совести… хочу сама написать Мише Койфману — не знаю, правда, что это даст… Целую нежно всех вас. Что не простились — чудная примета — к встрече…»
Мишу Койфмана мы не знали, зато адрес уцелел: 12 Scotland Road, Lexington, MA 02173, телефон тоже: 617 8630291. Речь — о деньгах, которые давали в голландском посольстве будто бы в долг, а на самом деле — навсегда. Мы их не истратили, оставили в Ленинграде, а теперь пытались получить через Америку… Встреча, о которой говорила примета, так и не произошла.
Особняком стоит мое письмо члену британского парламента Джону Горсту. Британка Розалинд Коллин настояла на том, чтоб я поблагодарил его за хлопоты в мою пользу; мое имя было произнесено под священными сводами палаты общин, попало в какие-то motions; помогло ли это, не знаю. На своем чуть-чуть кривоватом английском я писал ему 15 июля:
…My wife, my daughter and I will never forget the letters to Her Majesty Government you wrote helping us to leave the U.S.S.R. Please accept now our sincere gratitude for your sympathy and interest in our fate, and try to save [the] others…
Позже, в 1986 году, я встречался с этим джентльменом, и он устроил мне экскурсию в зал заседаний палаты общин. «В других странах, — сказал, между прочим, Горст, — подобные залы устроены на современный лад, с креслами и столиками для записей, а мы сохранили наши традиционные лавки…» Уцелел снимок, где я жму Горсту руку на фоне поддельной пламенеющей (flamboyant) готики Вестминстерского дворца.
Пришло письмо от немки Петры Шлиркампф от 17 июня, но не из Германии, а из Нидерландов, где она почему-то устроилась жить и учиться. Загадка! Неужели в Германии не нашлось для нее места? И другая загадка, продолжавшая меня преследовать: откуда у Петры такой хороший русский язык? Может, она — наполовину русская? Отчего ее двуязычие — не профессия?.. Нет, тут была цепочка загадок, которые можно свести к одной: я всё еще не понимал и не чувствовал, как живут люди, родившиеся по сю сторону железного занавеса; в чем их ценности и приоритеты… И что означает двуязычие в душевном смысле? Ведь язык — душа человека; разве нет? У Петры тоже были наши книги, которые она не хотела доверить почте. Через нее же (три года спустя мы с нею виделись во Фрайбурге) потом пришла к нам и материнская брошка с алмазами, оказавшаяся в свободном мире грошовой.
Получили мы привет и из Красноярска, но не от Белянина, а от Володи Ореховского, престранного человека, математика и, чудилось мне, неудачника. В 1978 году, когда я защищал кандидатскую диссертацию в красноярском институте физики, Ореховский позвал меня в гости. Помню страшно неустроенную, но отдельную квартиру; бледного чумазого ребенка, евшего мелких рыбешек (кильку?) чуть ли не сырыми, белобрысую жену, негостеприимную до неприличия — и откровенно презиравшую чудаковатого мужа… Володя появлялся у нас в Ленинграде. В первый раз пришел без телефонного звонка. Отворяет Таня дверь и видит угрюмого человека, спрашивающего меня по имени-отчеству. Сперва она решила: это КГБ, но угрюмый, услыхав, что меня нет дома, начал переминаться с ноги на ногу и буркнул: «Ну, я позже зайду…» Таня спросила имя гостя, вспомнила мои рассказы и пригласила его зайти… В июне 1984 года Володя писал нам в Иерусалим в конверте без обратного адреса:
Горячий сибирский привет от вашего друга Володи О.!
…Значение моего знакомства с вами было для меня совершенно уникальным, и ваш отъезд я пережил болезненно как большую личную потерю. Ведь благодаря вам в моей жизни открылась ленинградская страница, вся освещённая несравненным светом вашей дружбы и участия. И вот она кончилась, вы на земле Израиля и живая история повсюду окружает вас. Но я всё еще по привычке воспринимаю вас совсем в другом контексте — нашей северной столицы и ее коммуналки на Воинова… Начав письмо, я почувствовал необходимость как-то осмыслить еврейскую тему в себе самом. Мои юные годы прошли среди обстоятельств, позволивших мне ощутить целостность и благородство еврейской души, почувствовать богатство еврейской культуры на идише. Но в практической жизни у меня роль еврейского элемента была сравнительно невелика. В этом смысле я промежуточный тип, для которого жизнь проблематична во всех ее аспектах. Однако здесь, как мне кажется, у меня много общего с вами…
Как он был одинок, этот «промежуточный тип»! В какой страшной дыре жил. При мысли о нем и сегодня сердце сжимается… Не могу не отметить с благодарностью, что слово идиш Володя склоняет правильно. «Говорить на идиш» (не на идише) — это словосочетание всегда казалось мне жалким местечковым жаргоном, диким хамством… Раиса Львовна Берг называла Новосибирск Новодырском, но рядом с Красноярском он, вероятно, был порядочной культурной столицей. В конце 1970-х, в начале 1980-х к нам в Ленинград из Красноярска приезжали ученые мужи и дамы. Одна дама оказалась в нашей коммуналке как раз на Песах. Застолье; слово за слово; наука; общие знакомые… Таня говорит: вот я мацу испекла самодельную, не хотите ли попробовать; получилась неважно, но всё же. Ученая дама отвечает:
— Но ведь это не настоящая маца.
— В каком смысле?
— Ну, настоящая — с кровью. Я прекрасно понимаю, что сейчас это донорская кровь. Я жила с евреями в детстве, я знаю точно…
Чрезвычайно характерно, что мы не нашли в себе ни сил, ни даже потребности вышвырнуть ученую даму за дверь. Она не родилась чудовищем, она тоже была жертвой: плотью от плоти уродливой, дикой страны… А ведь я, был момент, подумывал перебраться из Ленинграда в Красноярск, просил у Белянина места в его лаборатории: так хотелось получить интересную работу с уравнениями…
Одно из сохранившихся писем было написано в Иерусалиме и пришло не по почте. Автор, с которым мы еще и знакомы не были, написал его на клочке бумаги перед закрытой дверью нашей пещеры в центре абсорбции.
Дорогие Колкеры! Дозвониться до вас трудно, а приехал — вас нет. Но я вас всё-таки застану! Привез с собой «Леа», но Рита Шкловская сказала мне, что у вас уже есть. Аля Федосеева [радиостанция Свобода] знает, что вы сделаете ей 3 передачи (по 10 мин. каждая). Я живу в Рамоте (авт. 35, 37 до остановки «Купат Холим») дом 41 кв 31. Может, вы меня найдете? Обнимаю. До встречи. Ваш Хейфиц Миша.
Прилагаю ма-ленький чек.
Миша Хейфиц! Это замечательный, этот легендарный человек, недавний узник ГУЛАГа, писатель, историк, журналист, еще и в лицо нас не видел, а уже протягивал нам руку помощи. Такова была тогдашняя израильская жизнь.
Еврейское агентство (Сохнут) на первых порах оплачивало нам почтовые расходы, которые, при нашем тощем бюджете, казались нешуточными. Когда писем набиралось на порядочную сумму, нужно было заполнить анкету и отвезти ее «на рехов Кинг-Джордж» (на улицу короля Георга). Там сидел старичок, принимавший анкеты и выдававший чеки. В иных местах анкеты требовались не слова, а значок, отвечающий на вопрос, да или нет. В соответствующих клетках я спокойно ставил крестик. Старичок сперва морщился, а потом прямо попросил меня ставить вместо крестика галочку… Когда Лиза пошла в школу, выяснилось, что в израильской арифметике отсутствует знак плюс, точнее, он — усечен: вертикальная черта доходит только до горизонтальной, не пересекая ее… Удивительно ли? Ничуть. Веками евреев убивали под этим символом, во имя этого символа. Есть, отчего невзлюбить крест. Для меня он был нейтрален, но не потому ли, что я вырос в стране пусть и безбожной, а вместе с тем исторически — христианской? В 1991 году мир с изумлением увидел, как эта страна в одночасье сменила Маркса на Христа. Вчерашние комсомольцы, за ухом не почесав, стали богомольцами.
Позволительно и перевернуть вопрос. Может ли последовательный христианин не быть чуть-чуть антисемитом? Логика тут простая. Господь избрал Израиль из всех народов Земли; Израиль не оправдал доверия Господня, не признал Спасителя; Господь в ответ сообщил избранничество верующим во Христа, среди которых нет ни эллина, ни иудея, от Израиля же отвернулся; постижение Бога, а с ним и цивилизация, пошли иным путем, оставив евреев на обочине истории… Но Израиль всё же был избранным народом (в глазах христианина); притом — был дольше, чем христиане. Избранничество прямо установлено в Ветхом завете, священном для христиан. В Новом завете сказано: «весь Израиль спасется» (Рим. 4, 26). Как тут быть? Некоторая ревность в христианине кажется естественной, если не неизбежной (самый счастливый любовник не может не ревновать к своему предшественнику); особенно же потому, что из еврейства мысль о собственном избранничестве не ушла. Можно в евреях и вероотступников увидеть; такое делают. Тем самым для интеллектуального антисемитизма обнаруживается некоторое пространство. Такой антисемитизм необиден, бесконечно далек от погромов, костров инквизиции и газовых камер, но ведь интеллектуал — самой природы меньшевик. Чернь слышит и понимает только лозунги.
Возможен и другой путь, по Исайе: «Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш; говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои…» (40:1-2). На этот путь и встали некоторые христиане евангелических конфессий. Как раз эти слова они взяли эпиграфом своей деятельности; точнее, первую часть этих слов, а что народ «от руки Господней принял вдвое за грехи свои», это в уме удержали.
— Политики не признают Иерусалим столицей Израиля?! Что ж, мы, последовательные христиане, сделаем это за них. Откроем в Иерусалиме Международное христианское посольство, International Christian Embassy in Jerusalem, IJCE, — вот их логика.
Сказали и сделали. Земля Израиля предназначена для евреев, второе пришествие невозможно без возвращения евреев в свою землю, — вот их мысль. В 1984 году Посольство находилось в доме 10 по улице Иосефа-Хаима Бренера (1881-1921; еврейский писатель, сложившийся под влиянием Толстого, Достоевского и Ницше… и некоторое время служивший рядовым в русской армии). Сейчас, когда пишу, сайт Посольства (http://www.icej.org/) его нового адреса не указывает; а почтовый ящик — прежний: POB 1192.
Туда, в Христианское посольство, мы немедленно передали сведения об Иване Мартынове; с тамошними работниками (почти сплошь работницами) подружились, главным образом с финкой Lilli Myss-Hansen. Из Посольства шла реальная помощь новым репатриантам, например, посылки с одеждой. Не раз эти люди приходили к нам в гости: и в нашу пещеру в центре абсорбции, и в нашу квартиру, когда она появилась. Кроме помощи материальной — из Посольства шел энтузиазм и душевный подъем. Сами сотрудники (в большинстве своем — добровольцы) были энтузиастами — и нас заражали. IJCE устраивало шествия на праздник Кущей (Суккот).
Одно из таких шествий (этот эпизод рассказан, но отчего не повторить?) потрясло гостивших у нас в 1988 году мать и сестру Тани. Вообразите: идет по улице Яффо, во всю ее ширину, стройная празднично одетая толпа с цветами и транспарантами. Таня, Лида и Александра Александровна сидят на автобусной остановке с сумками (только что с рынка) и смотрят на демонстрацию. Вдруг из первых рядов шествия выбегают три женщины, Lilli Myss-Hansen с двумя другими сотрудницами, и кидаются обнимать Таню, а когда Таня объяснила, что рядом — ее сестра и мать, и этих тоже. Тут было, отчего растрогаться до слез. Свояченица и теща увезли в Ленинград не только восхищение Израилем, но и мысль о том, что нас (нашу семью) знают решительно все. В каком уголке Израиля ни назовешь наше имя (они объездили страну с экскурсиями), всюду восклицают:
— Колкеры? Юра и Таня? А, ну как же, как же!
Не исключаю, что к Тане в Посольстве испытывали особые чувства из-за ее очень скандинавской внешности.
Почему именно Суккот отмечало Посольство столь пышно? Может быть, тут — намек. Евреи сорок лет блуждали в пустыне в поисках земли обетованной (именно об этом напоминает праздник Кущей); они и сейчас еще блуждают, еще не нашли пути к Спасителю… Впрочем, это мои домыслы. С подачи Посольства журнал Tribüne (Франкфурт-на-Майне) напечатал перевод моей статьи о Мартынове (Das Schicksal des Iwan Martynow, #96, 1985), только вот не помню, какой: я писал о Мартынове в мюнхенском журнале Страна и мир (7, 1984), в парижской газете Русская мысль (3548, 20 декабря 1984), в израильском альманахе Jews of the USSR (2/8, 1984).
Канадские христиане, связанные с Посольством (одно имя помню: Mrs. Rowlings), задумали снять фильм об отказниках и репатриантах: о борьбе советских евреев за выезд в Израиль. В октябре 1984 года нас пригласили на съемки в какой-то иерусалимский сад неимоверной, как нам казалось, красоты. Актеры мы были никудышные; смущались и робели. По одной и той же дорожке сада нужно было пройти раз, потом еще раз… всё это называлось дублями, смущало нас еще больше, но деваться было некуда: назвался груздем — полезай в кузов. На садовой аллее взяли у нас троих пространные интервью; нужно было рассказывать о том, как мы геройствовали в России и как наслаждаемся жизнью здесь… нет-нет, на самом деле можно было говорить что угодно, но роль подсказывает слова. Для экономии времени приставили к нам переводчицу, израильскую поэтессу Рину Левинзон, родом из Свердловска, преподававшую английский в иерусалимской школе. Другие сцены, с другими героями (среди которых были и настоящие герои, вроде Роальда Зеличонка и Володи Лифшица) снимались в Москве и Ленинграде, когда эти двое, отсидев, вернулись из Сибири; власти каким-то образом допустили или проглядели такие съемки.
Фильм в итоге был завершен; назывался он The Gate of Brass, Медные ворота, чему в русском синодальном переводе соответствуют медные двери: «Я пойду пред тобою и горы уровняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю» (Иеремия 45: 2). Естественно, мы пошли на премьеру в громадный Театрон-Ерушалаим (Иерусалимский театр), в зале которого мне потом (в 1988 году?) впервые в жизни довелось слушать с эстрады Окуджаву. Мне фильм радости не доставил; держался я перед камерой плохо, говорил скверно… или отснят был плохо? Когда на экране появилось крупным планом лицо Тани размером в человеческий рост, признаюсь, я вздрогнул. Таня вышла в фильме убедительнее, чем я. При выходе из театра на нее показывали пальцами, кричали:
— Вот она! Вот она!
Таков был еще один танин звездный час в Израиле, второй после сцены на празднике Кущей… Не совсем кстати вспоминается и третий из ее ключевых израильских эпизодов, без медных ворот и венков. К языкам туповатые, мы с нею, тем не менее, со временем всё-таки начали как-то говорить и немножко читать на иврите. В 1990 году, когда медные ворота опять открылись (я уже был в Лондоне, Таня — еще в Иерусалиме), едет как-то Таня в автобусе; стоит на центральной площадке. Входят две религиозные женщины лет тридцати; всё у них как надо: длинные юбки и рукава, закрытые кофточки, платочки. Вошли; стоят рядом с Таней; а Таня проглядывает заголовки в ивритской газете, которую кто-то из сидящих развернул прямо перед нею. Как раз на заголовки — нашего иврита всегда хватало. В английской статье заглавие понимаешь в последнюю очередь — только прочитав статью; проклятые англичане мыслят матрицами, застывшими метафорами; спектр значений, привязанных к слову, слишком широк (у слова put, например, 60 значений). В иврите такого не бывает; заголовки почти всегда прозрачны, разговорный язык прост и беден… Одна из женщин, обращаясь к другой, говорит по-русски:
— Посмотри, вот женщина явно скандинавского типа — и та на иврите читает!
Вторая отвечает ей с глубоким вздохом:
— Да, это только мы с тобой такие идиотки…
Автобус как раз остановился. Чтобы не расхохотаться, Таня выскочила на остановку раньше, чем ей было нужно… Характерно, что бывшую соотечественницу в ней не заподозрили.
Можно допустить, что иные христиане работали ради славы или ради идеи (держали в уме конечное обращение евреев ко Христу); но всё-таки все они работали по велению сердца. Ни идеологии, ни корысти невозможно было усмотреть в поведении Линдона Вильямса из Техаса, подвижника-одиночки, который появлялся на улице Алкалая, в Центре информации о положении советских евреев. Он делал всё, от подготовки документов до мытья полов, ремонта мебели и помещения, причем на совершенно добровольных началах. Когда представителям Центра нужно было в октябре 1986 года попасть в Рейкьявик, на встречу Рейгана и Горбачева, Линдон, который некогда жил в Исландии, устроил им персональные приглашения через пастора своей тамошней общины. Без таких приглашений попасть на эту встречу было совершенно невозможно.
«Не спи, вставай, гунявая! В цепях звеня, страна встаёт легавая навстречу дня» — Лиза с младенчества знала только этот вариант бодрой советской песни 1932 года. Слова Бориса Корнилова (1907-1938; «репрессирован; реабилитирован посмертно») мне пришлось поправить в духе времени. И что же? В Израиле я услышал эту песню по радио — на иврите (конечно, не с моей поправкой). Она была там своя, народная; со своими словами, к Борису Корнилову отношения не имеющими. Но это бы ладно; тут хоть музыка — Шостаковича. Когда песня возникла, на дворе стояла молодость мира. Мускулы были в цене; физкультура. Не всякий раз и понимаешь, чьи это мускулы играют: коммунистов или нацистов. Кто первым, в 1923-25 годах, начал петь Авиамарш «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью»? Знаменитый припев у двух народов совпадает дословно:
|
Und höher und höher und höher… Всё выше, и выше, и выше… |
Он же — что никем не отмечено — непостижимым образом совпадает с девизом Нью-Йорка: Excelsior, означающим ровно то же самое. У советского Авиамарша есть композитор: Ю. Хайт, но отличить советскую песню от немецкой, из нацистского фильма Лени Рифеншталь Триумф воли, — невозможно. Два народа, две идеологии так молоды, что им — не до авторства. Это, кстати, общее правило, идущее через всю историю: чем важнее текст, тем менее важен автор. Разве Гомер — человек, а не коллектив? Кто автор Пятикнижия? Главное — истину донести и утвердить…
— Нравятся тебе наши песни? — услышал я на иврите от одной израильтянки. Дело было в автобусе; там у них всегда радио включено, главным образом из-за новостей, которые жадно слушают все, от мала до велика. Вид у меня был, должно быть, выразительный. Я буквально рот открыл под звуки насквозь советской, нестерпимо пошлой песни с припевом «Солдаты, в путь! В путь! В путь!», которая тоже преспокойно перекочевала в иврит… Казалось бы, другая эпоха: 1955 год; песня из фильма Максим Перепелица. Подлинная молодость схлынула, ее теперь имитируют. Все состарились, не только большевики, но и большевизм, показавший свою антисемитскую природу. У СССР — омерзительная, самодовольная физиономия обуржуазившегося холопа. Как заимствовать такое?! Ибо тут-то заимствование из русского, из советского — несомненное. Но евреи взяли. Нам нет преград на море и на суше. Эту песню не задушишь, не убьешь. Почти весь Израиль считал ее своей, кровной.
Анахну кан, на иврите: мы тут, — так назывался эстрадный ансамбль из Литвы, несколько самодеятельный; осторожно говоря, не совсем мирового уровня; зато очень национальный. Двадцать седьмого декабря 1984 года я оказался на его выступлении в Иерусалимском театре, на вечере, который почтили своим присутствием министры Шимон Перес (будущий президент Израиля) и Яаков Цур. Точнее, приехал-то я (с Сашей Шиповым, на его машине) на русский митинг, но речи на двух языках и чтение документов (в том числе моего письма с требованием свободной репатриации, прочитанного не мною) перемежались песнями и плясками этого самого ансамбля, а среди этих песен и плясок были, хм, русские. Зачем? Неужто еврейских не хватает? Если не танцев, то песен-то, казалось бы, сколько угодно… А дело в том, что актеры исполняли эти песни еще там. Песни входили в репертуар ансамбля. Не пропадать же добру?.. Сейчас, когда пишу, времена переменились разительно. По слухам московский Краснознаменный хор исполняет еврейскую песню Хава-ногила… — краснознаменным хором, по Галичу…
Элиэзер Бен-Егуда, возродивший разговорный иврит, произнес формулу, которую я знал еще в России: «Ам эхад — сафа ахат. Егуди дабер иврит!» (Один народ — один язык. Еврей, говори на иврите!) Красиво. Допустим, говорить кое-как я научусь, уже научился, но как писать на неродном языке? Не служебные записки, а стихи, прозу или хоть статьи? Музыка, пусть хоть самая национальная, — всего лишь способ осмысления мира и профессия для музыканта, язык же — нечто большее: он — мировоззрение. Тут самая ткань души затронута. Слово стол (немецкое по происхождению) — и то с английского на русский не совсем однозначно переводится.
Оглянувшись в Святой земле, я увидел тьму пишущих по-русски — и пишущих плохо. Мысль и слог преобладали местечковые; заносчивость и крикливость — анекдотические. Шел этот карнавал от сознания, что «мы — в центре мира», да к тому же «все вокруг свои». Долгожданная свобода печати тоже способствовала развязности. Бумага всё терпит. Чуть не первой попалась мне статья под названием Мандельштам — поэт иудейский. Сейчас смешно, а тогда было не до смеха. Я видел воочию, что автор потерял совесть, не понимает своего и нашего места. При этом народная молва, совершенно в духе вот этой самой местечковой разнузданности, именовала автора (Майю Каганскую) не иначе как гением. Верно: писательница была небездарная, вздор ее был с изюминкой, хоть и с перекосом, но одаренных людей вообще много, вкус же и чувство меры, непременные составляющие большого таланта, даются немногим.
Этих качеств в целом катастрофически недоставало русской израильской литературе. Как образец безвкусицы и нелепицы я тогда выписал (из № 27 журнала Двадцать два, стр. 209) такое:
Можем ли мы, живя в Израиле и отождествляя себя с ним, идентифицировать себя как «русские по культуре»? Вряд ли. Декларативная «русскость» некоторых евреев, а так же их «универсализм» и «интернационализм», на самом деле являются лишь маскировочными цитатами культурного паразитизма. Лишенные национального сознания паразиты обвивают стволы национальных культур: сегодня это будет русский ствол, завтра немецкий, французский или американский. Мы же не для того совершаем процесс самоопределения, чтобы остаться при сомнительной самозваной идентификации…
На каком языке это написано? Автор (Нелли Гутина) думает, что пишет по-русски. По-русски — призывает нас порвать с русским языком... Случай, собственно, уже был, но язык Жаботинского блистателен, мысль его остра — и одним этим вопрос переводится в другую плоскость. А тут?!
Бен-Егуда родился под Вильной; в детстве говорил на идише, одном из еврейских языков. Он был последователен: перешел на иврит; воспитал первого со времен царя Соломона человека, своего сына, для которого иврит стал языком разговорным. Перейдем и мы, во главе с Нелли Гутиной, на иврит; отряхнем с наших ног прах старого мира, тем более что русский — язык погромщиков, угнетателей, палачей, а не наших местечковых предков. Перейдем — и напишем ее слова на хорошем иврите. Перейдем, а если не сможем сами; если мы не столь мощные индивидуальности, как Бен-Егуда, — перейдем в наших детях и внуках, себя же принесем в жертву идее, удобрим собою почву, будем доживать такими, каковы мы есть: половинчатыми, частично русскими, воспитанными в мысли, что русский язык — не только язык погрома, но и язык Пушкина. При этом нам еще придется отказаться от местоимения мы. Коллективный выход из тупика Гутиной невозможен. Мы разные. Нужно оставить под солнцем место тем, кто относится к русскому языку бережнее Гутиной, а вместе с тем считает себя евреем и хочет жить в Израиле… Таков был строй моих тогдашних мыслей.
Местоимением мы — злоупотребляли вокруг нещадно. Каждая кучка норовила говорить от имени всего Израиля; соседней кучке — воздуха не хотела оставить. В израильской (ивритской) политике число партий доходило при мне до 35-ти; в русской общине — в политике, в нравственной сфере, если брать шире, — их было еще больше. Разнобой неудивителен; наследие за плечами у всех было разное; большинству приходилось свое прошлое преодолевать, каждый делал это на свой лад; иным казалось, что только они правы. Отсюда — повальное мы. Жму руку тем, кто преодолел в себе русский язык. Восхищаюсь ими; но прошу оставить пятачок земли тем, для кого язык — не средство общения, а сердечная мышца. Собственно говоря, тут и просить нечего. Разве Михаил Хейфиц или Феликс Кандель не стали еврейскими писателями в Израиле, целиком оставаясь в русском культурном поле, не порывая с ним? Не обошлись ли они без крикливой местечковости Гутиной и Каганской? Да, они — вместе с тем и русские писатели. Только замоскворецкий патриотизм откажет им в этом. Две культуры оказались в выигрыше от нашего однобокого, чисто советского воспитания. В этом и состоит сила индивидуальности: уметь недостаток превратить в достоинство… В прошлом еврейство отвергало тех, кого занесло в чужие края. Русские (другие русские, не теперешние) на минуту сделались в XIX веке всемирно отзывчивы — но разве это не еврейское качество, разве у евреев оно не прослеживается в тысячелетиях?
Тем как раз и поражал меня тель-авивский журнал Двадцать два: с одной стороны — серьезный и глубокий подход ко многому; культурный уровень — разительно выше среднего советского (что, впрочем, и не мудрено); одаренных авторов — масса; а с другой стороны — Вальпургиева ночь безвкусицы, местечковая узость. Отчего Александр Воронель не видит этого? Его книгой Трепет забот иудейских я восхищался еще в России; его статьи, прочитанные мною в Израиле, не испортили впечатления. Он — влиятельный член редколлегии журнала (что он фактический его владелец, я не понимал). Воспитанный ум, выверенный слог — и вдруг он поощряет эту свистопляску! Прошли годы, прежде чем я догадался, что ни мысль как таковая, ни, тем более, слог — сами по себе не представляли для Воронеля никакой ценности. Он оказался человеком идеи; той самой идеи.
Однако ж мою первую проверку на вшивость журнал Двадцать два выдержал. В его 38-м номере была затеяна дискуссия о советских евреях. Меня пригласили в ней участвовать — и дали на прочтение (на обсуждение) статью художника, члена редакционной коллегии Виктора Богуславского Они ничего не поняли. Я резко возразил ему (Он ничего не помнит, Двадцать два, 38, 1984), не сознавая, что иду не против одного из членов редакции, а против всего журнала и всего русского израильского истеблишмента, в первую очередь — против Воронеля. Это была моя первая (не считая стихов в Киноре) публикация в Израиле.
«Читая статью В. Богуславского Они ничего не поняли, я с печальным удовлетворением видел, как выпущенные им стрелы, одна за другой, ложатся в цель, и цель эта — я: один из ничего не понявших, один из "недостойных своего часа"…»
— так статья начиналась. «Недостойные», по Богуславскому — евреи, не выехавшие из СССР в начале 1970-х, когда это было просто. Они плохие. Всё многообразие судеб и характеров автор валил в одну кучу, всех мазал одним мирром; в человеке различал только форму носа. Это было смешно, пошло и глупо, но я — что было еще глупее — пытался показать неправоту Богуславского: я в ту пору верил в думающего читателя.
Невыносим был уже самый тон статьи Богуславского, патетический, высокопарный: «наше Восстание», «эпоха Восстания и Исхода». Это — про своих. Про оставшихся — иначе:
«Я помню их тогда, эту постоянную смесь самодовольства и страха — постоянный фон их существования, отмеченного непрерывным предательством самих себя. Это было отвратительно. Недаром я предпочел тогда, в 70-м, их обществу — тюрьму…»
Хорош сионист, предпочитающий плохим евреям хороших вертухаев и зэка! Но если остались такие плохие евреи, что о них рассуждать? Забыть — и делу конец.
Поносит Богуславский и евреев Запада,
«чьи национальные чувства были растревожены шестидневным триумфом… Они с восторгом стали бороться за советских евреев. Эта комфортабельная "борьба" — демонстрации, конференции, рауты, коктейли — приятно щекотала их национальные чувства, позволяя — без особых притом усилий — ощущать свою причастность к строительству Израиля, к сионизму…».
Я спрашивал: не лучше ли такая борьба, чем никакой? Большинство-то вообще ничего не делает. И не смешно ли от каждого требовать героизма? Богуславский — герой; он идет в тюрьму за народное дело; а вот этот американский буржуй — не герой; он дает на правое дело деньги. Человеку естественно делиться с ближним излишками. Нельзя требовать от человека того, чего у него нет.
Уступку Кремля Богуславский объяснял «величественным восстанием еврейского духа», теперь поникшего.
«Это был неслыханной дерзости мятеж, терпеть коий [sic!] система не могла — и сочла оптимальным избавиться от него, выбросив носителей мятежа за свои пределы. — Поймите: не "выпускали евреев", а — изгоняли мятежный дух».
Испугались, значит. Это кремлевские-то геронтократы! Не за канадскую пшеницу приоткрыли двери, а с испугу.
Наконец с фатальной неизбежностью поднимается в статье В. Богуславского и вопрос о тех, кто, выехав, не поехал в Израиль.
«Еврей, восставший, отделивший себя от системы, ощутивший себя свободным, видел свою свободу только в Израиле… Восставшие и обретшие право Исхода были субъектами и, как таковые, с советской действительностью были несовместимы, они пробили дыру в железном корпусе российской системы, обретя ореол субъектов истории…».
Зачем я возражал на всё это?! Слов не жалел, бедняга:
«Богуславский, пусть и в ореоле субъекта истории, несвободен от завистливой злобы по отношению к своим соплеменникам, которых он, как сор, выметает за дверь национальной жизни. Он не обрел свободы в Израиле, ибо свободный человек не бранится, не презирает… он отмежевывается от большей части своего народа, советской и американской. Чего стоит одно только местоимение они, вынесенное в заглавие!… Богуславский не понимает, что атмосфера в современной России предпогромная, не понимает вздорности своих славословий тем и проклятий этим, не видит двусмысленности своей позиции, — все это само по себе еще не беда. Хуже, что он ничего не помнит. Ни национальной истории, ни даже истории своей жизни в России. Но память — это совесть; и человек (или народ), не помнящий своего прошлого, не стеснен в своих поступках и способен совершить страшные вещи…»
Редакция Двадцати двух напечатала это и тем подтвердила в моих глазах, что свобода печати в Израиле — реальность; но симпатии моя позиция вызвать не могла.
Конечно, моё раздражение против Богуславского было чрезмерным, а пожалуй — и опрометчивым. В одном отношении он сильно опережал меня: он понимал, что в наше время печатному слову — грош цена, оттого и писал, как Бог на душу положит. (Снижение печатного слова подчеркивалось еще и оформлением журнала Двадцать два: шрифт — экономии ради — был такой мелкий, что журнал тяжело было читать… и он, журнал, даже не казался журналом.) Но я-то приехал из заповедника XIX века, из большевистской пущи с жупелом властителей дум в уме; для меня печатное слово сразу в вечность отправлялось…
Кажется, статья моя не понравилась всем, и было, отчего. Впрочем, на иврит ее всё-таки перевели и напечатали — в захолустном альманахе (Егудей брит а-моацот [Евреи Советского Союза], № 9, 1985).
Открывало дискуссию в 38-м номере интервью Юрия Штерна главному редактору журнала Двадцать два Рафаилу Нудельману. Штерн говорил от имени Центра информации о положении советских евреев, группы давления, способствовавшей перелому в отношении израильского общественного мнения — в пользу советских евреев. Чуть не в первых словах Штерн отмечает: «Есть уникальные люди, вроде Эдуарда Усоскина, который один работает как целая организация», но «наш успех» — прямое следствие убеждения Центра, «что единственный шанс на спасение советских евреев связан с изменением обстановки в Израиле». Для изменения обстановки Центр прибегал к демократическим рычагам: через общество оказывал давление на правительство. И преуспел. В правительстве Бегина пункт о репатриации стоял на 22-м месте, в правительстве Переса (заступившем 13 сентября 1984 года) — на четвертом. Штерн не приписывал этот успех целиком Центру информации; он вообще скромен и осторожен; если сгущает краски, то лишь говоря о предпогромной атмосфере в России… — но разве и сам я не с тем же ощущением выехал?
Весь смысл слов Штерна был мне по душе, весь его стиль. Он, среди прочего, вспомнил слова Бердяева: никто не выиграл от революции больше евреев — но никто в итоге не проиграет от нее больше евреев. На себя Штерн умел взглянуть честно:
Годы антисемитской пропаганды не прошли бесследно. Вот простой пример: в свое время, приехав из Москвы в Одессу, я был просто потрясен, увидев чисто еврейские компании, которые принципиально не включали никого извне; мне это было чуждо и даже неприятно, я считал это проявлением какого-то расизма. А сегодня такая ситуация типична уже и в Москве, и в Ленинграде. Почему? Потому что среда стала более антисемитской…
Совершенно то же и я чувствовал в России… да нет: всё еще продолжал переживать в Израиле. Штерн не скрывает, что для него решение порвать с Россией было «невероятно тяжелым». Он совершенно точно указывает болевую точку: появление мощного движения среди русских интеллектуалов, пассивно отвергавших советскую власть — и вместе с тем не скрывающих своего антисемитизма. Именно эти люди сделали для меня Россию отвратительной. С большевиками и чернью — всё и так было ясно, они в счет не шли.
Каким наслаждением было читать заключительную заметку Александра Воронеля к этой дискуссии! Опять, как при чтении Трепета забот иудейских, я видел: мысль Воронеля широка и точна, слог — превосходен. Мыслитель должен быть писателем. Веская ритмическая организация текста, его полнозвучье, соединение живой страсти с мастерством — убедительнее цифр и фактов. За такое всё простишь. Даже то, с чем не согласен. Воронель (сперва, в духе Макиавелли, отделив политику от нравственности) подводит читателя к мысли о безнравственности неширы (отсева; речь о тех, кто, выехав, не поехал в Израиль). Согласиться с этим я не мог. Как и Штерн, я считал неправильными (даже безнравственными) разговоры о нешире, выставление ее на передний план — уже хотя бы потому, что так поступал Кремль. Жизнь человека коротка; жизнь выросшего в Советском Союзе — погублена. Реализоваться на Западе проще, чем в Израиле. Как сказать вырвавшемуся на свободу: не езжай в Америку, это некрасиво? Может, человеку завтра умирать, а он Войну и мир не успевает закончить или теорему Ферма доказать. Сам я поехал в Израиль из соображений нравственных, свою Войну и мир принес в жертву, — но от других такой жертвы требовать не мог… Воронель был сионистом; я — не был.
Эйтан Финкельштейн, другой участник дискуссии, был сионистом разочарованным. Что его разочаровало? Некогда Борис Хазанов обозначил мечту, какой русская культура еще не знала: мечту о Новой России. Давайте, говорит он, махнем куда-нибудь в не слишком заселенные места (таковых, как ни странно, на свете еще полно) и создадим другую русскоязычную страну, как некогда англичане создали Новую Англию, шотландцы — Новую Шотландию, а французы — Квебек. Россия как она есть — безнадежна, но жалко отдавать большевикам (и их соратникам по ножу и топору, их социально близким элементам) Пушкина и Толстого. Спасем высокую русскую культуру от сегодняшней русской черни, ее недостойной. Кого звал Хазанов в Новую Россию? Всех без разбора, без всякой оглядки на этнос, — но найти живой отклик его слова могли едва ли не только у русских евреев, как раз к этому времени ставших хранителями высокой русской культуры. Эйтан Финкельштейн сперва верил, что Новой Россией может стать Израиль, а затем увидел, что этого не произошло. Вот его собственные слова:
Чего хочет средний советский еврей? Он — русский еврей. И он хочет быть самим собой. Он не хочет быть ни русским, ни американцем, ни израильтянином, ни австралийцем: он хочет быть русским евреем. Сознают они это или нет, понимают они это на индивидуальном или коллективном уровне или не понимают, — но они стремятся быть такими, какими были их отцы: русскими евреями. И в Израиль они стремились, — а я убежден, что поначалу все они искренне стремились именно в Израиль, — потому что надеялись найти здесь тот русско-еврейский центр, в котором они бы чувствовали себя хорошо и нормально, как дома. И вот этого они здесь не нашли… Сегодня единственный привлекательный центр создало для себя одесское еврейство — в Америке, не в Израиле.
Нужна была большая смелость, чтобы сказать такое: там и тогда.
Исторически, в глубокой древности, первым Брайтон-бичем, в духовном отношении плодотворнейшим, преобразившим всё человечество (самый иудаизм, самый сионизм создавшим), была еврейская община Иезекииля в Вавилоне, говорившая — не на иврите. «Пусть отсохнет моя десница, если забуду тебя, Иерусалим…» Я в 1984 году Финкельштейна осудил, а сейчас вижу: он возвещал еще одну правду, мне, быть может, самую близкую… И всё-таки не мою. «Чего хочу? Всего, со всею полнотой!» — вот единственная строчка из Николая Огарева, с которой я прожил жизнь. Я больше всего хотел оставаться русским евреем, верно; но еще больше я хотел быть русским, евреем, американцем, израильтянином и австралийцем одновременно. Испанцем — жму руку Козьме Пруткову — тоже. Всеми — и всеми сразу. Я хотел быть свободным человеком в свободном мире; без мифов и идеологий.
Та же дискуссия была вскоре устроена и прилюдно, в одном из больших тель-авивских залов. Я сидел на подмостках, в числе других авторов, из которых твердо помню только Юру Штерна; к выступлению не готовился, текста не писал, но что-то промямлил в микрофон. В зале, среди прочих, находился заезжий прозаик Эфраим Севела и поэтесса Рина Левинзон, опекавшая нашу семью как новых репатриантов и меня как вновь прибывшего сочинителя. Потом она поделилась со мною: будто бы на ее вопрос, чтó он обо мне думает, Севела ответил, что я — «думающий человек». Что ж, и на том спасибо.
Загадочное название для журнала, не правда ли? Говорят, он отделился от своего предшественника, Сиона, на 22-м номере; или переродился из него. Может быть; я не проверял. Сиона при мне не было. Еще мерещится, что 22 — число с намеком: ровно столько букв в ивритском алфавите. Известно, что оба журнала, Сион и Двадцать два, наследовали московскому машинописному журналу Евреи в СССР, где одной из главных фигур был Воронель. В Израиле финансирование Двадцати двух шло, по слухам, от политически правых, от партии Тхия. Сейчас, в начале XXI века, тоже по сведениям непроверенным, изустным, в него вкладывает — соберитесь с духом — путинская Россия: вкладывает на поддержания русскоязычной культуры; а сионисты — берут. Чудны дела твои, Господи.
Публиковаться в Двадцать два я начал сразу по приезде (№№ 38, 39, 41), но своим в журнале не стал. Еще бы! Я ведь при всяком удобном случае напоминал: я — не сионист, сионизм считаю лучшей из идеологий, но идеологий не хочу, устал от них. Я в ту пору называл себя толстовцем с важной оговоркой насчет неверия в Бога. Оговорки никто не слышал, христианство же вызывало стойкое отталкивание. Иные приезжали в Израиль христианами — ан, глядишь, через какое-то время становились иудеями, да еще пылкими. Конформист сидит в каждом из нас. Тепла, достигаемого человеческой общностью, всем недостает. Конечно, и то правда, что нонконформизм, к которому я повсюду инстинктивно склонялся, — оборотная сторона той же медали: потребность в общности, осуществляемая через отталкивание от общества.
Отчетливо вижу мою первую встречу с главным редактором Двадцати двух Рафаилом Нудельманом. Я приехал к нему в Тель-Авив во вторник 3 июля 1984 года, ровно через две недели после приземления: привез только что написанную статью Он ничего не помнит. Никакого помещения у редакции не оказалось (я уже догадывался, что так и будет). Нудельман принимал меня дома. Возрастом он (так мне почудилось) был лет на 5-8 старше меня, видом суров, со мною — сух и неразговорчив. Мы не подружились. Эту статью, а за нею Ленинградский Клуб-81 (№39) и другие журнал принял, но и в эти первые месяцы, и в дальнейшем печатал меня неохотно. Среди прочих, думаю, была тут и та причина, что все приезжавшие в Израиль оказывались сочинителями — есть отчего устать, автобус-то не резиновый. Но было и личное; во мне чувствовали чужого… Двадцать лет спустя судьба еще раз свела меня с Нудельманом в той же позиции; он редактировал журнал Эдуарда Кузнецова с игривым названием Nota Bene (времена переменились разительно); я, уже из Лондона, печатал там что-то, но журнал быстро усох.
Литературная премия имени Розы Этингер за 1984 годы (комиссию возглавлял врач Эмиль Любошиц) была присуждена журналу Двадцать два и Майе Каганской. В январе или феврале 1985 года меня пригласили выступить на вручении. Текст я писал старательно. Он, с обрезанным хвостом, появился в №41 журнала. Журнал я хвалил:
«Журнал 22 бесспорно стал культурным событием в России… легко вписавшись в контекст новой русской культуры, чему способствовала и почетная известность его основателей, и общая серьезность тона, взятого редакцией. Помню, однако, что название, юношески заносчивое и отдающее авангардизмом, вызвало у меня поначалу некоторую настороженность. Но публикации быстро рассеяли это минутное недоверие. Я увидел, что журнал осуществляется профессиональными литераторами, что его страницы доступны представителям различных школ и направлений и что большинству авторов, помимо литературной одаренности, присущи широта и свобода в изображении и истолковании мира… В мае 1984 года историк литературы и правозащитник Иван Федорович Мартынов назвал 22 лучшим русскоязычным журналом современности. Даже если усомниться в справедливости и непредвзятости такого суждения, самая его возможность в устах русского литературоведа говорит о многом… Сюда присылают тексты из России, Европы и Америки. Столь же широка и география обсуждаемых проблем. "Журнал еврейской интеллигенции из СССР в Израиле" (таков подзаголовок 22) только выигрывает, публикуя Сергея Довлатова, Василия Аксенова, Иосифа Бродского, Дмитрия Бобышева и Юрия Кублановского. Выбери редакция иной путь — и даже кворум наших блестящих соотечественников [то есть израильтян], пишущих по-русски и являющихся основными авторами журнала, не избавил бы 22 от налета провинциальности. Очень хорошо, что этого не происходит. Изоляционизм был бы насилием над большинством из нас. Следование ему — тупиком. Столь же бесплоден, на мой взгляд, и остро дискутируемый вопрос о том, русскую или еврейскую культуру мы представляем. Он собственно некорректен, не имеет ответа в предложенных терминах, из которых самым неподходящим является местоимение мы. Осознав необычайность своего положения; приняв как данность, что язык, на котором он следует велению своей совести — русский, израильский писатель вправе не заботиться об остальном…»
Как могли воспринять это присяжные сионисты? Только с неприязнью. Что журнал — лучший, тут им свидетельство Мартынова (кстати, весьма сомнительное) не требовалось: довольно было того, что журнал — израильский. И какая, к чорту, провинциальность в центре мира?! А что они русских американцев печатают, так это потому, что эти американцы — евреи или примкнувшие к ним. Вопроса же о том, русская или еврейская культура на дворе, вообще нет: естественно, еврейская…
Но эти мои бестактности были, что называется, цветочками. Дальше я сморозил такое, чего Двадцать два, при всей его подразумеваемой широте и терпимости, не напечатал и напечатать не мог. Я сказал, что Майя Каганская хоть и талантлива, но «ее обращение со словом и фактом кажется мне неудовлетворительным». Это — лауреатке в момент чествования, в глаза и публично, с трибуны! Лихой я был казак. Гениальность Каганской принималась всеми как нечто самоочевидное. Но мне всё было хоп-хны; я всё еще жил в атмосфере чуда, явственно чувствовал на себе перст Божий… Понятно, что это мое выступление сразу определило отношение ко мне израильского русского истеблишмента.
Тем не менее журнал напечатал мои стихи (№44, 1985); печатал и дальше (№55, 1987; №100, 1996). Из подборки 1996 года (я тогда уже в Лондоне жил) мои стихи попали в 2007 году в американский двухтомник Anthology of Jewish-Russian Literature (1801-2001), с очерком обо мне. Статей, сколько помню, было у меня в Двадцать два еще три: Гарвардский синдром в эстетике (№63, 1989), где я, хоть и с оговорками, присоединился к Борису Хазанову (Прощание с авангардом) в его возражении Василию Аксенову (В авангарде — без тылов); затем Пиковая дама, или Москва в канун перестройки (№ 67, 1989), о неожиданной и остроумной прозе Олега (Александра) Кустарева; и Русалочий хвост в разрезе (№115, 2000), о стихах Елены Шварц. В связи с этой последней Воронель поначалу упирался:
— А кто она такая?
Этот вопрос мне уже доводилось от него слышать. С ним на устах Воронель отклонил в 1996 году мою статью о Зое Эзрохи, а когда редакция многотомника Евреи в культуре русского зарубежья пожелала включить в свои выпуски статью обо мне, — произнес его в связи со мною (но тут сам я Воронеля перед редакцией поддержал). Была у меня еще одна публикация в журнале (№104): перевод работы Владимира Вейдле Художественное произведение как живой организм, сделанный в соавторстве с Риной Киршенбаум в 1997 году… В последний раз я обращался в журнал в 2006 году; Воронель не ответил.
В 1985 году, еще когда мы жили в центре абсорбции, Воронель как-то заехал (заскочил) к нам: привез номер с очередной моей публикацией. Едва он вышел, я подумал, что не мешало бы спросить о вознаграждении. Я спустился с лоджии, когда он еще только к машине подходил. Тут же, положив на крышу автомобиля чековую книжку, он выписал мне чек за одну из статей, когда же я напомнил о стихах, Воронель сказал назидательно:
— Стихи — не товар…
Как он был прав! Рифмовать человек и так будет, публиковаться — за честь почтет: за что же платить? В Трепете забот иудейских Воронель в том же духе рассуждает о работе физиков: мол, меня всегда удивляло, что нам платят; не платили бы — мы бы делали то же самое. (На этом месте я, естественно, споткнулся: а жить-то на что?) Наоборот, Маяковского удивляло, когда за стихи не платят; низкий уровень поэзии в Мексике он объяснял отсутствием гонораров за стихи (я и тут спотыкаюсь: как он, не знавший ни одного языка, сделал свое заключение?).
В тот раз, в центре абсорбции, я отметил про себя, что у Воронеля необычайно низкий лоб. В моей памяти встал другой низколобый ученый: Саша Гиммельфарб из Агрофизического института, но тот был низкорослый, а Воронель — крупный. Вспомнил я и высоколобого питерского волейболиста Витю Мильнера, про которого точно знал, что он — не семи пядей во лбу.
Не отсутствие небоскребов; не арабские ослики, навьюченные дынями, арбузами и виноградом; не крикливый иерусалимский базар Маханей-Егуда с его пряными запахами, не местечковость новых моих соотечественников — не это всё делало для меня Израиль провинцией, а русское литературное слово, стиснутое сионистской идеологией. Всемирная отзывчивость (стиснутая отталкиванием от большевизма) осуществлялась через кириллицу где-то вдали, в Европе и Америке: вот что свербело в моем мозгу еще до высадки в Лоде и не давало покоя в Израиле; вот в чем состояла трагическая жертвенность моего выбора; ведь я мог ехать куда угодно; в Париже и Нью-Йорке меня ждали.
Но там, на Западе, была другая трудность: в этой всемирной отзывчивости мне чудилось православие как презумпция невиновности еврея. Я уговаривал себя: западные христиане — не антисемиты, не должны быть антисемитами; разве не доказала мне это Зинаида Шаховская своими письмами, книгами, судьбой?.. Сейчас только память возвращает мне это чувство, в ту пору перешибавшее всё. Сейчас антисемит мне только смешон — как недоумок и лишенец. Тогда — спасибо Советской России — ужас, что во мне опять будут видеть не человека, а еврея, застилал горизонт. Сердце требовало Новой России Бориса Хазанова, свободной от всех низостей.
И что же? Такая Россия открылась в Мюнхене как раз в 1984 году — вместе с журналом Любарского и Хазанова Страна и мир. Уровень журнала ошеломлял. Не верилось, что такое можно увидеть напечатанным по-русски: живая деятельная мысль, слитая с превосходным выверенным словом, без тени ханжества или местечковости. Евреям отводилось то самое место, которое они на деле занимали в русской культуре, без предвзятости в ту или иную сторону. Обсуждались те самые вопросы, которые (казалось мне) волнуют всех, — и обсуждались лучше, чем в самиздате. Это была моя страна, моя родина.
Конечно, переезд в Мюнхен представлялся невозможным по причинам нравственным: я не мог уехать из Израиля. Меня, собственно, никто и не звал, но какая-то смутная возможность переезда на секунду всё же забрезжила. На шестой месяц моей жизни в Иерусалиме, когда я всё еще был событием из-за моего двухтомника Ходасевича и ленинградского альманаха ЛЕА, Мила Дымерская-Цигельман, научный сотрудник Центра по изучению восточно-европейского еврейства, женщина незаурядная, сказала мне между прочим, что в Мюнхене ищут человека вместо решившего уйти Максудова (третьего редактора Страны и мира) — и что я кажусь ей, Миле, самым подходящим кандидатом. В итоге в Мюнхене взяли Вадима Менакера — и правильно сделали, он куда больше подходил им, умен и образован был просто на удивление, выделялся даже в перенасыщенной интеллектуалами иерусалимской среде. Меня, повторюсь, не приглашали, сам же я ни малейшего движения в эту сторону не сделал, только на секунду размечтался от неожиданных слов Милы. Но это — потом. А в первые недели у меня возник упоительный эпистолярный роман со Страной и миром.
Журнал был ежемесячный (во что едва верилось); правда, выходил с некоторым опозданием. Я приземлился в Израиле 18 июня, а уже в июльском номере вышла моя заметка Голодовка Ивана Мартынова, которую ведь еще написать нужно было — в эти самые первые дни, когда и стола-то письменного в нашей пещере не было. Как такое возможно? А очень просто. Журнал опаздывал. Мое первое письмо к Хазанову датировано 26 июня; он ответил 10 июля; текст о Мартынове я послал ему только в письме от 22 июля в качестве приложения к письму:
«Дорогой Геннадий Моисеевич, спасибо за немедленный и дружеский ответ. Стиль и тон Вашего журнала (оба номера прочитаны, спасибо за них) мне очень по душе. С благодарностью принимаю Ваше предложение о сотрудничестве. Я уже начал писать для СиМ обзорную статью о ленинградской второй литературе и тамошнем самиздате. Затем, у меня имеются все материалы по делу Зуншайна, надо только привести их в систему.
Предложение вести в журнале отдел литературной критики, в высшей степени заманчивое, я должен обдумать; боюсь, что пока эта работа мне не по плечу из-за нехватки времени и неопределенности нашего будущего. Не вижу пока, что бы я мог предложить Вам для Архива.
Срочно высылаю Вам наскоро набросанный текст о И.Ф.Мартынове — текст не литературный, а информационный. Он был предназначен специально для перевода на английский язык и последующей рассылки заинтересованным лицам и организациям; поэтому я не слишком следил за стилем, а старался быть лишь предельно точным; отсюда же и сухость языка, и неуклюжие длинноты. Можете редактировать его в смысле сокращения произвольным образом; приспособьте, если нужно будет, название статьи к дате выхода номера — необходимо лишь обеспечить этому делу скорейшую гласность и спасти человека. Позвоните ему по телефону 314-32-42 — чтобы поддержать его и, быть может, откорректировать мою информацию.
Еще раз — спасибо. Всего наилучшего. Ваш…
Прошу Вас поставить под моим сообщением о Мартынове только мои инициалы — Ю. К. Меня можно вызвать на телефонный разговор по номеру 671-697 или 673-271, Иерусалим. Это контора, дежурный обычно говорит по-английски; он не зовет меня, а оставляет мне записку, например, с сообщением о том, что Вы позвоните завтра в три; в указанное время я жду Вашего звонка. — Ю.К.»
Сергей Максудов (Александр Бабёнышев) тотчас откликнулся: «Присланный Вами материал о И.Ф.Мартынове пойдет в ближайшем номере. Большое спасибо. С нетерпением ждем обещанных Вами статей, рецензий и чем еще пожалуете…» С нетерпением! Ну и времена настали… 31 июля я посылаю Хазанову заметку о гонениях на Белянина, написанную телеграфным стилем. Ее (в письме от 9 августа) Хазанов отклонил: «материал о Белянине для нас не подходит: он был бы уместнее в газете» (он потом и вышел в газете: в Русской мысли от 13 сентября).
Наконец, я получил часть моих бумаг, переписал на машинке и 10 сентября отослал в Мюнхен статью о Владимире Лифшице со следующим письмом:
«Дорогой Геннадий Моисеевич, посылаю Вам мою статью о В. Лифшице — хотя и помню, что объем ее для Вас неприемлем. Если всё же вы решите печатать её, прошу сообщить мне об этом сразу и не отправлять текст в набор до получения моего ответа.
К сожалению, мне всё еще не под силу подписаться на ваш журнал. К сожалению — ибо он не просто мне интересен: в Вашей работе Не поймет и не оценит я встретил ту полноту единомыслия, которую перестал уже искать. Не помню, чтобы за последние годы что-либо было прочитано мною с подобным воодушевлением — притом, что я мелочно придирчив по части не только мысли, но и языка, и стиля. Больше же всего меня тронули в ней пейзажи, истинно поэтические.
Передайте, пожалуйста, мою благодарность С. Максудову за письмо и журнал.»
Намек о подписке был понят правильно; журнал мне стали присылать бесплатно.
В недатированном письме за двумя подписями Максудов и Хазанов отвечают: «Ваша статья о Владимире Лифшице превосходна. Это настоящее литературоведение, и мы бы очень хотели ее напечатать. Единственное но — объем». Были там на деле и другие возражения и вопросы. Статью в Мюнхене прочли внимательно.
За статью о ленинградском самиздате я принялся в середине июля; писал с упоением; просидел три с лишним месяца (поскольку прочих дел было невпроворот), закончил — и 8 ноября отослал в журнал.
«Дорогие редакторы, посылаю вам обещанный обзор ленинградского самиздата. Пожалуйста, как можно скорее сообщите мне ваше отношение к нему: станете ли вы его публиковать, и когда. По-видимому, мое письмо от 8/10 затерялось. В нем я писал о моем принципиальном согласии на некоторые сокращения в статье о Лифшице и просил прислать ваши замечания. Там же я упомянул важный для меня момент, связанный с типографическим исполнением моих работ. Для меня чрезвычайно существенно, чтобы все встречающиеся в тексте названия были набраны курсивом и без кавычек. Это условие в полной мере относится и к прилагаемой статье.
Секретарь журнала Жанна Яценко озадачила меня предложением сообщить ей мой BLZ. Пожалуйста, объясните мне, что это такое. Открытка, посланная Жанной Яценко, шла ко мне 2.5 месяца.»
В недошедшем (а может, оставленном без ответа) письме от 8 октября я благодарил Максудова «за благожелательный отзыв о моей работе»; в принципе соглашался на поправки; дальше шло объяснение моей давней идиосинкразии насчет кавычек:
«…Я совершенно убежден (и неодинок в этом), что корректное употребление кавычек только одно: выделение цитат. Взятие в кавычки имен собственных (каковыми являются названия произведений, журналов, издательств) унижает читателя, а с ним и автора…»
Я не сознавал еще, что и у Хазанова, у прозаика Бориса Хазанова, был на этот счет свой пунктик: он держался западной системы подачи прямой речи в прозе: вместо открывающего тире, как это принято в русской литературе, заключал каждую фразу в кавычки. В том же письме я сообщал:
«И.Ф. Мартынову предъявлено обвинение по ст. 196-2: подделка документов. Я получил от него отчаянную телеграмму, но дозвониться к нему пока не смог. Не затруднит ли Вас передать это короткое сообщение на Свободу? Звонки в Европу мне не оплачивают, а стипендии едва хватает на еду…»
Телеграмма Мартынова от 30 сентября сохранилась: srochno pozvonite menia ojidaet sudba roginskogo ivan. Срочно позвоните! Знал бы он, какой это ужас: не иметь под рукой телефона! Не сомневаюсь: он думал, что я совесть потерял: получить такую телеграмму — и тотчас не позвонить. А это было физически — да-да, физически — невозможно…
Что до упомянутой открытки, то она тоже стала переживанием:
«Уважаемый г-н Колкер,
будьте любезны прислать нам номер Вашего банковского счета указав BLZ, название банка и его адрес с тем, чтобы мы могли переводить Вам гонорары.
Секретарь Жанна Яценко»
А как иначе? Конечно, переживание. Во-первых, «гонорары», да еще прямо в банк. Во-вторых, я — «г-н». Давно ли я был товарищем? В-третьих, вот она, Европа: загадочное BLZ; должно быть, все знают — один я неуч. Но знали не все. Знали только в Германии и Австрии, где существует банковский идентификационный код, Bankleitzahl, и подобающее ему сокращение. Потом я это часто наблюдал: слова, понятные русским только в стране эмиграции, они не задумываясь употребляли в разговорах с эмигрантами из других стран.
«Превосходная» статья о Лифшице так и не вышла. В письме от 13 декабря 1984 годы Максудов-Бабёнышев прислал мне сокращенную редакцией версию. «Главная причина сокращений — объем… Если Вы предложите другой вариант сокращения до 15-18 страниц, то мы с удовольствием его примем…». Я что-то уточнял, они мялись. Наконец в начале лета 1985 года Хазанов писал:
«Дорогой Юрий,
вопреки обещанию, отвечаю Вам снова не сразу по причине, почти не зависящей от меня: началось отпускное время, и мы едва успели два дня назад сдать номер. Ежемесячный журнал — это чудовище, которое стоит перед Вами с раскрытой пастью: если вы его не накормите, оно отхватит кусок от вас.
К большому моему сожалению вынужден возвратить Вам статью о Владимире Лифшице. Мы долго колебались, статья имеет много достоинств, прекрасно написана. Решили дело голосованием. Очень хочу надеяться, что не потеряю из-за этого Вашу дружбу, и очень хотел бы поддерживать с Вами связь и впредь.
Ваш Г.М. Файбусович»
Мне смешно было слушать разговоры о перегруженности редакционной работой. Сам я буквально изнывал по такому труду. Не сомневался: ночей спать не буду, если окажусь при настоящем журнале, при меристеме русской культуры. Хазанов — представлялся мне барином, не понимающим, какое это счастье: иметь свою усадьбу… Чего скрывать? Я-таки мечтал, чтоб меня взяли туда хоть на полставки, но — чтоб пригласили, притом без моей просьбы. Первое из нравственных обязательств, державшее меня в тисках, к этому времени уже начало ослабевать. Я прожил в Израиле год; иные из самых пылких сионистов и того не выдержали. Я уже слышал пословицу, дивный образчик еврейского юмора: «Израиль — школа жизни; пройдя ее, нужно уступить парту другому». Вообще меня мучительно тянуло в Европу, в эту «страну святых чудес». Но Мюнхен — не Париж. Не раз и не два мне приходилось слышать от израильтян, что они не понимают, как еврей может жить в Германии. Да и Париж был с душком; говорили, что центр сегодняшнего антисемитизма в Европе — Франция.
На отказ журнала я не обиделся. Статья благополучно вышла в парижском Континенте (№42, 1986). В начале XXI века я поместил ее на мой сайт, и она, спустя десятилетия после ее написания, оказалась в числе самых читаемых: на третьем месте после статей о Заболоцком и Бродском.
Не поссорились мы с Хазановым и дальше, хотя повод был. По поводу статьи о ленинградском самиздате он писал 13 декабря 1984 года:
«Статья нравится нам всем, и мы хотели бы поместить её в одном из ближайших номеров. В сущности, это даже не статья, а серьезное и даже уникальное исследование. По этой причине, однако, она — в ее нынешнем виде — не совсем ложится в журнал…»
Дальше шли замечания. Нужно ли говорить, что я и тут проявил уступчивость, хоть и не стопроцентную? И статья вышла в первом номере Страны и мира за 1985 год, но с таким количеством редакционных вторжений, иногда нелепых, что я просто заболел; неделю не мог в себя прийти. В одном месте после редакционной правки выходило, что мне в Ленинграде выпала одна из самиздатских премий, чего отнюдь не случалось. Другие придирки шли в разрез с моим пониманием языка… Ведь не кое-как я писал свое сочинение, а душу в него вкладывал. Вносил поправки в мою статью (в этом я не сомневаюсь, хоть и не спрашивал) сам Хазанов; ученый малый, но педант, — совсем как я…
Про мой двухтомник Ходасевича мне было известно, что его «издал в Париже Владимир Аллой», а его издательство называется La Presse Libre. Этим сведения исчерпывались. С Аллоем я знаком не был, в переписке не состоял; не понимал, кто он и что. Уже в Израиле раздобыл я парижский адрес издательства ИМКА-пресс, где работала его жена, Рада Аллой, которой я и написал 30 августа 1984 года:
«Беспокою Вас, дорогая г-жа Аллой, с просьбой помочь мне установить контакт с Вашим мужем, адреса которого я не знаю. В прошлом году, в его издательстве, вышел подготовленный мною двухтомник стихов Ходасевича. Уезжая в июне этого года из Ленинграда, я, конечно, не сумел вывезти любезно присланный мне туда экземпляр книги — да и не стал бы этого делать, будь такое возможно. Сейчас, однако, книга мне нужна, и я хотел бы просить В. Аллоя прислать мне её. Надеюсь, Вас не затруднит передать ему мою просьбу. Быть может, он пожелает также написать мне, чему я был бы рад: у нас могут найтись и общие знакомые, и общие интересы.
Почтительно…»
В октябре получил я письмо от Аллоя, датированное 27 сентября 1984 года:
«Дорогой Юра (не сочтите за амикошонство, но отчества Вашего не знаю, а писать "г-н" рука не поворачивается). Я только что вернулся в Париж и нашел Ваше письмо. Высылаю немедленно двухтомник. Простите за его несколько "нетоварный" вид, но это единственный экземпляр, у меня имеющийся. Что касается ваших авторских (обычно я отправляю 20 экз. вышедшей книги), то… наши общие друзья написали мне, что посвятили Вас в общих чертах в ситуацию. Она может показаться гротескной, но книг у меня нет. Часть нераспроданного тиража находится в магазине Нейманиса в Мюнхене, небольшая часть — в "Русской Мысли". Я полагаю, что Вам следовало бы обратиться к Нейманису, надеюсь, он вышлет Вам книги. Я, со своей стороны, тоже ему напишу.
Думаю, что в ближайшее время Вы получите письмо от Нины Николаевны Берберовой. Я недавно видел ее и сказал, что Вы на Западе. Она — существо прелестнейшее и очень к Вам благоволит. Книга ей понравилась. Кстати, а Вам?..
Что касается гонорара за издание, то по закону Вам полагается 10% потиражных. Но, опять-таки по причине моей ситуации, — все это теперь не в моей власти. Если Вы на него рассчитываете (а я полагаю, что с деньгами у Вас негусто), Вам необходимо обратиться к главному редактору "Русской Мысли" г-же Иловайской, во власти которой и книги, и поступающие за них деньги…
Что Вы собираетесь делать? Жаль, что Вы не проявились из Вены, можно было бы устроить Ваш заезд сюда до Израиля. Вообще напишите поподробней безо всяких церемоний. Чем смогу — буду рад Вам помочь, по крайней мере со стороны контактов по литературно-филологической части. В общем, напишите, как и что.
Искренне Ваш. Владимир Аллой»
«Общие друзья» — газета Русская мысль, но кто именно? «Ситуация» — ссора Аллоя с газетой. Выходило, что издательство — не предприятие Аллоя, а существует при Русской мысли. Об этом я ничего толком не знал — не знаю и сейчас. К моменту начала переписки какие-то слухи до меня дошли, но вникать в них не было ни малейшей возможности.
Я ответил Аллою 9 октября:
«Дорогой Володя,
получил Ваше письмо от 27.09.84, отвечаю немедленно. Спасибо за двухтомник: за издание и высылку экземпляра. Вы спрашиваете, доволен ли я им? — и да, и нет. Опечаток много, и большая часть из них — на моей совести. То, что я работал в не совсем обычных условиях, утешает друзей, но безразлично читателю. Очень жаль, что листы с моими последними поправками и алфавитный указатель стихотворений не дошли или опоздали. Сейчас я уже перестал мучаться моими оплошностями, а поначалу страдал не на шутку. Оформление книги прекрасное. Ряд редакционных вторжений в мой текст — уж не знаю, Ваших ли, — показался мне неоправданным…
…Вас, вероятно, поразила бы моя неосведомленность в части парижских издательских и прочих дел. Достаточно сказать, что Ваше имя я впервые услышал после выхода первого тома. Осторожность — не за себя даже, а за других, — заставляла меня быть нелюбопытным. Затем, я и вообще нелюбопытен: из вежливости. Лишь здесь, от местных, я узнал, что Вы больше не работаете в издательстве (которое я считал Вашим предприятием), и что Ваш уход был вызван конфликтом; о природе же Ваших с ними разногласий я ничего не знаю — как не догадываюсь, кто эти "наши общие друзья", написавшие Вам обо мне…
…С любопытством и нетерпением жду письма от Берберовой. У меня давно есть ее адрес (и поручение: привет от И.М.Наппельбаум), но я не решался писать. Я был убежден, что двухтомник ей не понравился.
Из Вены я не смог бы поехать в Париж, даже если бы сознавал, что такая возможность имеется. У меня нет на Западе литературных друзей, я до сих пор не знаю, кто протянет мне руку, а кто отвернется. Зато я находился в самом фокусе еврейских дел, и за моим маршрутом напряженно следили и в России, и в Израиле (где у меня тоже не было ни друзей, ни родственников), и в Штатах, и в Англии. Свернуть в сторону, даже на пару дней, было немыслимо. Проехать мимо было бы предательством по отношению к оставшимся, среди которых есть люди, сидящие в отказе второе десятилетие. Можно вообразить, какой шум поднялся бы в обоих лагерях, если бы редактор Ленинградского еврейского альманаха поехал в Париж или Нью-Йорк. При всём том, случись мне избежать сидения в отказе и выехать в период массовой эмиграции, я вряд ли вспомнил бы об Израиле…»
Дружбы у нас не получилось. В январе 1986 года, в Париже, я первый и единственный раз виделся с Аллоем. Он пригласил в ресторан меня и другого заезжего гостя, Габриэля Суперфина со Свободы; потом, на своей машине, отвез нас обоих к Зинаиде Шаховской. Ресторан, автомобиль, Париж — всё это казалось мне в ту пору неправдоподобной, недостижимой роскошью. Видом Аллой был черен — от громадной копны черных волос, и весь в бороде; держался уверенно; чуть-чуть напоминал оперного Мефистофеля; рассыпался в похвалах моей работе. Но я ему не понравился; он почуял в моем солдатском ранце что-то продолговатое. Мы потеряли друг друга из виду.
В 1999 году, оказавшись в Питере, я прослышал, что Аллой открыл в этом городе издательство. За день до возвращения я позвонил ему с вопросом: не издаст ли он книгу моих стихов. Он без излишней любезности согласился посмотреть рукопись, которая и была оставлена в Питере и затем передана ему моими друзьями. Отклика не последовало. Что происходило с человеком? Через два года, в январе 2001-го, мне сообщили, что он покончил с собою.
Задним числом знаю, что он был старше меня на год; эмигрировал в 1975 году, жил в Риме, участвовал в экуменическом движении; в Париже работал в издательстве ИМКА-пресс, три года вел издательство Пресс-либр при Русской мысли, издавал исторические альманахи Память и Минувшее. Догадываюсь, что расположение ко мне он окончательно потерял после моей статьи о Бродском.
Имя Сергея Дедюлина я впервые услышал в начале 1980-х, в кочегарках, от Саши Кобака. Произносилось оно с уважением. Человек был выслан за то, что издавал машинописный журнал Северная почта; текстолог, по слухам, был незаурядный; оказался в Париже, работает в Русской мысли… Сейчас не объяснить, да что там: и самому-то мне не очень понятно, но в ту пору, я это хорошо помню, название Русская мысль звучало несколько неадекватно, почти смешно. Чудился в этом XIX век — и вздор, а вместе с тем, в противоречие сказанному, и серьёзность. Мы-то — к каким названиям были приучены: Знамя, Октябрь… Другим носителем имени Дедюлина была Римма Запесоцкая, с которой меня в 1983 году познакомил тот же Кобак. Римма с Дедюлиным приятельствовала, оставалась в контакте с ним и после его эмиграции; имелся даже какой-то канал для писем и рукописей.
Я написал Дедюлину из Иерусалима 9 июля 1984 года, еще до письма к Аллою, но и до получения ответа от него, на адрес, полученный от Риммы (15, рю де Порто-Риш, 92190, Медон):
Дорогой Сергей, мне поручено передать Вам привет от Риммы Запесоцкой, с которой мы (моя жена и я) в последние годы очень подружились… Мне хорошо известно, что Вы некогда приняли участие в моей судьбе: пожалуйста, примите и мою запоздалую благодарность. В наших интересах и судьбах достаточно общего, и я не упущу случая быть Вам полезным. Мы давно знакомы заочно. Жаль только, что человека, которому я обязан нашим знакомством [Кобака], я уже не могу назвать (вероятно, и прежде называл напрасно) моим другом. Возможно, Вас интересуют ленинградские литературные новости — я расскажу Вам о них, если пожелаете, в следующем письме.
Решаюсь теперь побеспокоить Вас несколькими необременительными просьбами. Во-первых, здорова ли З.А. Шаховская? — если да, сообщите, пожалуйста, ей при случае о моем выезде. Не пишу ей, чтобы не обязывать ее непременно ответом: в последних письмах ко мне она жаловалась, что ей трудно писать. Во-вторых, не спросите ли у В. Аллоя, издателя Собрания Стихов Ходасевича, экземпляра издания для его составителя? — не зная, в каких Вы с ним отношениях, прошу во всяком случае сообщить ему мой новый адрес. Не знаю также, пристойно ли мне просить в Континенте гонорар за мою давнюю публикацию, — посоветуйте. Наконец, последнее: известно ли Вам что-нибудь о сборнике Гумилевские Чтения [по материалам семинара Ивана Мартынова]? он должен был выйти в Вене в прошлом месяце с моими (и некоторых других ленинградцев) стихами и статьей…»
Ответ от 1 августа, на трех листках размером с открытку, с обеих сторон исписанных красным шариком, пришел чуть ли не через месяц. Я едва разобрал написанное — так небрежен оказался почерк. Как если б этого было мало, Дедюлин еще прибегал к сокращениям. В письме он жаловался на загруженность работой, писал, что вот прямо сию минуту уезжает в отпуск (в отпуск!), сообщал, что вернется 26 августа, спрашивал о ленинградских делах, о Сергее Стратановском и Обводном канале [машинописном журнале Кирилла Бутырина и Стратановского].
«Очень хотел с Вами поговорить на многие конкретные темы… Главное — сообщите Ваш телефон!!! Я давно бы Вам позвонил!»
Как объяснить иностранцу, что телефон для меня — недостижимая роскошь?
«Аллой не работает у нас с февраля — странно, что Вы не знаете этого…»
Нет-нет: совсем не странно. Откуда мне было знать? Я живу своею жизнью, не парижской, даже — не ленинградской.
С Шаховской Дедюлин оказался незнаком, интереса к ней не питал, кивал на ее статьи в Вестнике РХД — как если б сам я мог симпатизировать Шаховской как писателю! Меня в ней привлекал и завораживал последний живой представитель настоящей России.
Дальше Дедюлин писал, что сообщил обо мне Н.Горбаневской — и гонорар в Континенте ждет меня; что La Presse Libre гонораров не платит, но Иловайская, «будучи замечат. человеком, помогающим многим как только может, сказала, что найдет способ заплатить Вам нечто вроде гонорара». Из письма Дедюлина я узнал, что Русская мысль один раз уже печатала мои стихи (в 1982 году); к письму был приложен экземпляр с публикацией. Дедюлин слышал, что я дал «большое интервью "Свободе"»; обещал попытаться устроить мне бесплатную подписку на газету (и устроил); приглашал в сотрудники: «Вообще — наш Гл. ред. Вам симпатизирует заочно и будет рад, если Вы захотите писать для "РМ"… буду рад Вашим стихам и другим текстам…»
Мне рады! Не чудо ли? Мне протягивают руку. Дружба с Дедюлиным казалась делом решенным. Вот только аббревиатура РМ в кавычках вызвала у меня тихое бешенство… ну, да ради дружбы чего не проглотишь…
Не знаю, сколько времени это письмо странствовало и где оно могло задержаться (не в израильской ли разведке, мне не поверившей?), а только 29 августа я писал в Русскую мысль так, словно его не было: обращался не к «симпатизировавшей» мне Иловайской, а ко всем «членам редакционной коллегии», представлялся подробно, как если б они вообще обо мне не слыхивали — и предлагал себя в качестве автора. В это мое письмо была вложена заметка о Белянине.
Все эти странности Дедюлин с удивлением отмечает в ответном письме от 14 сентября: «дела с нашей перепиской обстоят почти катастрофически». Помню, как мучительно было читать пересказ его предыдущего письма. Эпистолярный слог Дедюлина меня озадачивал, даже удручал. Человек работает при газете: при лучшей на тот день русской газете мира, а пишет — как говорит: многословен, фразы бесхребетные. Будь я на его месте… и т.п. Вздор, конечно. Дедюлин был на своем месте, прекрасно подходил для своей работы, у меня же, по совести говоря, вообще не было места на этом свете, только признаться себе в этом было трудно. Писателю при газете делать нечего. Старая истина, но — из тех, которые усваиваешь только на собственных ошибках.
Дедюлин сообщал, что они с Иловайской рот разинули над моим письмом с «анонимным обращением ко всем членам редколлегии»; что моя заметка о Белянине тотчас пошла в набор, из-за чего даже «заметка о Сене Рогинском переместилась с внутренних страниц на третью»; что мои стихи «весьма понравились И.А., но она просила меня передать Вам, что хотела бы опубликовать подборку побольше и поэтому ждет от Вас ее». Дедюлин затевал в это время литературное приложение к Русской мысли:
«Так вот, очень Вас приглашаю участвовать в этом приложении во всех желательных для Вас жанрах… Мне бы особенно хотелось видеть Ваши тексты в ближайшем после октябрьского выпуске этого "Лит. прил.", ибо в нем ожидается рецензия одного голландского слависта на новейшую американскую монографию о Ходасевиче (изданную по-английски, разумеется), в которой он намерен в качестве положительного примера привести Ваш комментарий к 2-томнику… сейчас "РМ" платит как будто не так уж и ничтожно-мизерно, как бывало в прошлом… Вы, м.б. уже знаете, что "22", "Вр. и мы" и кое-какие еще вообще не платят гонораров даже местным эм. авторам…»
Рецензия голландского слависта на Ходасевича… Ей-богу, парижская газета оправдывала тогда свое имя — и до какого жалкого состояния докатилась она в начале XXI века! Стала бульварным листком новых русских.
О Шаховской Дедюлин сообщал, что «несколько лет назад (полтора?) она спонтанно сама ушла из тех редакций, в которые — формально — входила», потому что они стесняли ее свободу.
Были в письме и упреки:
«Так вот, И.А. просила Вам передать так: "Книги издал не Володя, а мы — и-во ‘Ля Пресс либр’"… Кстати, мне осталась неясной Ваша фраза, что я будто бы принял какое-то участие в Вашей лит. судьбе. Я с интересом и удовольствием читал Ваши тексты; исправлял опечатки… но никакого такого своего участия в судьбе Ваших текстов, а тем более в Вашей судьбе, вспомнить не могу. Помню же я, сказать правду, свою досаду или сожаление, когда увидел вышедшими из типографии Ваши книги, и там или вовсе необязательные ошибки (корректорские), или же всевозможные пропуски в библиографии — которые вполне понятны (вследствие трудной доступности для Вас в Л-де многих западных материалов), но которые я бы мог быстро в значительной степени восполнить — если б Вы вспомнили о моем существовании в Париже и попросили бы передать мне рукопись хотя бы для просмотра…»
Четверть века прошло, а всё еще обидно перечитывать. Тогда же — просто руки опустились… Я ответил:
«Ваше участие в моей судьбе выразилось уже в том, что через Вас я узнал о моей публикации в Континенте. Затем, как Вы сами сообщаете, Вы корректировали мои тексты. Разве этого мало? Вы упрекаете меня в том, что я не вспомнил о Вашем существовании в Париже при составлении библиографии. Но, дорогой Сережа, как я мог обратиться к Вам, когда мы не были формально знакомы? Кто мог уверить меня в Вашей доброжелательности и заинтересованности, и, тем более, в готовности помочь? С таким же успехом я могу спросить Вас, почему вы не предложили мне Вашу помощь. Ведь я даже не знал, что Вы — сотрудник издательства, выпускающего двухтомник. Конечно, я бы с благодарностью принял Ваши поправки, библиография — слабое место моей работы. Но ведь у меня и в мыслях не было, что с издательством возможен диалог…»
Мне, когда я сидел над Ходасевичем в Ленинграде, так нужен был в Париже именно вот такой — умный, образованный и заинтересованный — человек, внимательный критик и библиограф, только взять его было негде… Ничего я не знал. Может, Дедюлин думал, что я, подобно Кривулину, только и живу сплетнями о событиях в западных кузницах русской литературной славы… С другой стороны, откуда и ему-то было знать, что я всю свою жизнь, где бы ни жил, пребываю на выселках, в стороне от всех, в своей раковине? Кто мог объяснить ему, что я — вовсе не интегральная часть ленинградского литературного подполья, а нелюдим и отшельник? Может, он даже того не понимал, что Ходасевичем я занимался для себя, от внутренней потребности, а не ради публикации в Париже.
Писал Дедюлин из Бергамо, с симпозиума по Андрею Белому, на машинке, принадлежавшей кафедре Бергамского университета, где были перепутаны буквы з и э и отсутствовал твердый знак, за что он специально извинялся. Над названием города он поставил ударение: Бéргамо, чтоб я, по русскому обыкновению, не подумал, что город называется Бергáмо. От одного этого имени (не от Андрея Белого, от Бергамо) у несчастного беженца голова кружилась, а тут еще и симпозиум, где Дедюлин представлял лучшую русскую газету мира…
Я писал Дедюлину 23 сентября:
«Дорогой Сережа, двухтомник, а за ним и Ваше письмо от 1.8.84, я получил, — большое спасибо. В письме Вы затронули много важных для меня тем, отвечаю по порядку. С Сашей Кобаком мы формально не в ссоре. После того, как меня вызвали в ОВИР, но задолго до объявления разрешения, Саша при случайной встрече пожелал мне всего хорошего — и это, как я теперь понимаю, было его прощанием. Когда стало известно, что мы уезжаем, и народ повалил к нам валом, он не пришёл. Незадолго до вызова в ОВИР меня уволили из котельной, где вместе со мной работали Б.И. Иванов, Б. Останин и Кобак, — уволила, конечно, администрация (по сокращению штатов), но фактически — мои товарищи. Не знаю, интересны ли Вам детали; их много, и всего не расскажешь в письме. Мне представляется, что мое увольнение было тщательно спланированной интригой Иванова. Поразили меня две вещи: то, что увольнение совпало с вызовом в ОВИР, и то, как в этой ситуации повел себя Кобак. На его дружескую поддержку, взаимопонимание или хоть уравновешенный диалог, где обе стороны обдумывают свои аргументы и контраргументы, я мог, мне казалось, твердо рассчитывать. Он же не просто взял сторону Иванова, но повел себя совсем как вершитель советского судопроизводства: отчужденно и замкнуто, как если б ему была известна вся правда и ещё что-то, что он обсуждать не хочет. Мне этот стиль непонятен. Мне кажется, что всё, даже самые нелицеприятные вещи, следует говорить прямо, что недостойно строить выводы на недомолвках и сплетнях и держать камень за пазухой, — тем более между людьми, друг другу не вовсе чужими. Смешно, что вся эта буря страстей разыгралась вокруг моего увольнения: Иванову, человеку интриги, было непонятно, что как ни тяжело моё положение отказника и кормильца двух иждивенцев, я тут же уволюсь сам, если мои товарищи этого единодушно пожелают — и прямо мне выскажут. Не смешно, что между действиями редакции Часов и КГБ обнаружилась в этом случае такая согласованность. В Ленинграде давно говорят, что Часы — журнал КГБшный: одни говорят, что он прямо субсидируется из Большого дома; другие — что он там проходит цензуру; третьи — что между КГБ и православно-русопятской оппозицией существует молчаливый сговор: что обе стороны готовы мириться друг с другом на основе русской имперской идеи. Я всегда отвергал первые два мнения как бездоказательные, я не настаиваю на них и сейчас, — но зато третье уже не могу не признать заслуживающим рассмотрения. Нечистоплотность Иванова для меня очевидна, Кобак же, вероятнее всего, был ослеплён нашими с ним идеологическими разногласиями. Этот умный, прекрасно образованный и серьезный человек оказался неспособен к диалогу, к признанию другой, отличной от его собственной, правоты…»
Уф! Нужно перевести дух и отереть пот со лба, за окном ведь жара тридцать пять градусов; там земля покраснела от жары (адамá — на иврите земля; адом — красный); там верблюды пасутся, арабы торгуют, евреи ссорятся… а я вот такие вещи пишу — о Ленинграде, из Иудейской пустыни в Париж. Столпотворение смыслов. (Слово столпотворение бытовало — и мною в детстве от матери было получено — как производная от слова толпа; лет до восемнадцати я так и думал.) Где я? «Адам, где ты?» Как хорошо было бы стать верблюдом…
Стратановский, писал я дальше Дедюлину, «в числе немногих из Клуба-81 приходил ко мне с формальным прощанием… я думаю, что он единственный истинный поэт среди ленинградских авангардистов». Еще бы мне так не думать! В нашей коммунальной кухне, перед выходом на лестничную площадку, он в июне 1984 года сказал мне на прощанье (в присутствии Тани):
— Какую женщину вы увозите!
Хотел, видно, сказать: «какую русскую женщину»; явно это имел в виду. Мы с Таней переглянулись и сдержались, возражать не стали, а очень просилось на язык правду сказать: что это она меня увозит, совершенно в духе тогдашней шутки: еврейский муж — не роскошь, а средство передвижения. Она первая завела разговор об эмиграции — и переубедила меня, поначалу упиравшегося… Однако ж каковы слова! Как явственно они клали черту между Стратановским (Россией) и мною (евреем)! Сейчас никто, никто не поймет, что это была за мука: прощаться с воображаемой небесной Россией, оторваться от ее риз, сотканных из мечты и мифа. Реальная Россия вокруг нас — гроша ломанного не стоила, вызывала только отвращение; никогда я по ней не вздохнул в эмиграции, а уж Таня — и подавно не вздохнула. Но Россия русской литературы XIX века, Россия Пушкина, Россия задушевной грезы, впитанной с молоком матери, — эта Россия в лице Стратановского деликатно отстранялась от меня как от чужого… только потому, что я еду жить за границей! Перерезалась пуповина… нет, больше: мать — становилась мачехой… Но я твердо, раз и навсегда положил себе: в оценках стихов — из личного не исходить.
Про Обводный канал я писал Дедюлину: «думаю, сейчас на очереди 8-й или 9-й номер; его [журнал] редактируют Стратановский, Кирилл Бутырин и совсем еще молодой, но очень одаренный человек: Дмитрий Волчек (лит. псевдоним: Линдон Дмитриев), бывший единоличным редактором-издателем журнала Молчание (1983-84)».
Вместе с Русской мыслью в мою жизнь входила еще одна, вторая после Шаховской, носительница русской исторической фамилии (а значит — и русской грезы), к тому же — «замечат. человек»: Ирина Алексеевна Иловайская. Восьмого октября 1984 года я писал ей:
«Дорогая Ирина Алексеевна, со слов С.В. Дедюлина мне известно, что Вы доброжелательно отозвались о моих стихах и просили большую подборку, — выполняю Ваше пожелание с удовольствием и признательностью; прошу только сообщить мне, что именно и когда Вы предполагаете опубликовать. Посылаю также заметку о тамошней литературной жизни, — быть может, более подходящую для Литературного Приложения к РМ (о котором мне писал Дедюлин), чем для газеты.
Как Вы уже, наверное, догадались, я понятия не имел о том, кому я обязан выходом в свет двухтомника Ходасевича, — точнее, имел об этом искаженное понятие. Теперь, задним числом, приношу Вам мою искреннюю благодарность. Сейчас я уже не могу вспомнить, кто именно и в каком контексте произнёс при мне имя В. Аллоя. Обстоятельства места и вежливость делали меня нелюбопытным… Сожалею о моей невольной ошибке.
Отдельно благодарю Вас за Ваши усилия заплатить мне что-нибудь за двухтомник. Я сознаю, что это и непросто, и совсем не в порядке вещей, а только дело Вашей доброй воли и доброго ко мне отношения. Я таковым не избалован, а в данном случае оно тем для меня удивительнее, что мы с Вами лично не знакомы. Должен сознаться, что деньги для меня и моих близких были бы сейчас совсем не лишними. В Ленинграде мы были анекдотически бедны (исключая последние годы, когда появились посылки), уехали с четырьмя чемоданами, и живем здесь пока на стипендию, которая вот-вот кончится. С работой для меня ничего не слышно. К тому же Таня, моя жена, еще в России перенесла тяжелую операцию на позвоночнике, и вряд ли в обозримом будущем сможет работать. Есть и другие проблемы. Одна из них — издание сборника моих стихов. Со мной четыре макета книжек, небольших, по 1000 или около того строк. Одну я предложил Игорю Ефимову — он спрашивает за нее 1500 долларов, что в пять раз больше вывезенной мною суммы. Т. Буковская, через которую я отправлял из Ленинграда моего Ходасевича, дала мне понять, что к издательству Ля Пресс Либр с этим обращаться не стоит; так ли это?
Как бы ни сложилась в дальнейшем деловая часть наших отношений, я навсегда остаюсь Вашим должником…»
К письму прилагалось письмо Дедюлину и моя фотография «для продолжения знакомства». Я повторно спрашивал, о какой сумме (за Ходасевича) идет речь; писал: «среди моих проблем — полное отсутствие книг, и если бы можно было выкроить деньги на самое необходимое — на русских поэтов и хороший энциклопедический словарь, — то я, вероятно, просил бы Вас помочь мне в этом, исходя из моих тамошних денег; здесь книги очень дороги, а выбор невелик». Странные слова. Выходит, я думал, что в Париже лучше с русскими книгами, чем в Израиле? Если не в Национальной библиотеке Израиля, то уж в частных собраниях — в русских домах Иерусалима — можно было достать всё, что угодно. Но сейчас мне эти мои слова понятны: они косвенно свидетельствуют, что даже через три с половиной месяца по прибытии у меня всё еще не было ниши в новом обществе.
Мои отношения с Русской мыслью наладились; я там печатался многие годы. В начале 1986 года гостил в Париже, четыре дня прожил у Дедюлина; получил обещанные деньги от издательства (около тысячи долларов франками) и гонорары из газеты; забрал часть моего архива, присланного Аллою из Ленинграда в конце 1984 года. Личное знакомство с Дедюлиным не оправдало моих надежд; он тоже был мною разочарован. Мы с ним немедленно сцепились по поводу Бродского; не сошлись и по многим другим вопросам. Расположением Иловайской я тоже распорядился не лучшим образом, и оно постепенно стало сходить на нет.
Четырнадцатого августа 1984 года получил я записку, начинавшуюся по-русски: «Дорогой Юрий»; дальше шло по-английски: «Я заходил в 2.20 [то есть в 14:20]. Извините, что опоздал. Я хотел бы заехать в четверг в три часа и забрать Вас с Таней и Лизой к нам на чай. Если от Вас не будет звонка, приеду в это время. Спасибо. Мартин…» Спасибо тоже было нацарапано по-русски. Почерк — ужасный. Над письмом значилось: 11 Rhov Caspi, Talpiot Tsafon, telephone 716 546. Северный Тальпиот, Денежная улица.
Записка была от Мартина Гилберта. Это имя я слышал в Ленинграде от Миши Бейзера: английский историк, помогает ему, Мише (писавшему историю петербургских евреев), и вообще евреям-отказникам. Один из многих, решил я для себя; функционер, немножко писатель. Была у меня (от других англоязычных гостей) книга Гилберта об отказниках, Евреи надежды, с портретами, но без статьи обо мне. Я не сознавал, какая честь мне оказывалась визитом Гилберта. Он уже тогда был человек с мировым именем, имя же составил себе на биографии Черчилля, которая считается классической.
Я позвонил Мартину и сдвинул его визит на час. В четверг 16 августа, к четырем часам, он приехал, на этот раз без опоздания. Оказался джентльменом лет под пятьдесят, очень английским на вид, неулыбчивым и немногословным. Единственным выражением его эмоций за всё время нашего короткого знакомства стала ухмылка, которую он бросил на лежавшую у меня на столе книжку о матери Черчилля, знаменитой Дженни. Называлась книжка Жизнь леди Рандольф-Черчилл (Ralph G. Martin. Jennie: The Life of Lady Randolph Churchill: The Romantic Years, 1854-1895); автор уверял, среди прочего, что эта амбициозная женщина в течение некоторого времени попросту правила миром… Что означала ухмылка Мартина? То ли, что эта книжка — седьмая вода на киселе, дешевое переложение его серьезного исторического труда… или то, что в псевдониме автора было прозрачно зашифровано его имя? Ни сравнить достоинство двух книг, ни проверить эту догадку я не мог по множеству причин.
Мартин возил нас по Иерусалиму: к старому городу, к мельнице Мотефьоре, знаменитой тем, что она никогда не работала; поил кофеем в армянском ресторане; мы побывали и у него в Тальпиоте, познакомились с Сюзан… Иерусалим — не из самых больших городов, но ездить по нему — сущая мука. В нем — пять климатических зон из-за перепадов высоты (от 700 до 900 метров над уровнем моря). Тут не холмы, а прямо настоящие горы, дороги в иных местах идут серпантином, в автобусах — только здесь, больше никогда и нигде — меня укачивало (оттого-то, не говоря о дороговизне билета, была для меня проблемой всякая поездка в центр города с нашей окраины). Другое дело когда тебя везут…
В машине Гилберта я предавался завистливым размышлениям: человек живет на два дома, одновременно в Британии и в Израиле. Какое везенье! О чем еще мечтать? А главное — занимается историей, моим несостоявшимся призванием. Ни одна профессия не влекла меня сильнее на протяжении всей моей жизни, а вместе с тем уже тогда, в 1984 году, мой шанс был упущен: в 38 лет, без кола и двора, в новой стране и практически без языков, не бросишься осваивать новое дело, тем более — имея семью на руках… Кстати, смутный слух сообщал о Гилберте неприятное: что он женился на деньгах, чтобы свободно заниматься историей. Спору нет, настоящий историк — не профессор, не чиновник, а именно самозванец-авантюрист, пишущий на свой страх и риск в своем кабинете. Так было всегда, от Фукидида и до фон Ранке, который несколько подорвал традицию, но в исключительно благоприятных условиях академической Германии XIX века… Вторая жена Мартина, Сюзан, как раз и обеспечила ему возможность творить… Что не помешало ему потом, в возрасте шестидесяти лет, развестись с нею. Но к этому моменту деньги ему, вероятно, были уже не нужны: он издал около восьмидесяти книг, удостоился ордена британской империи, был посвящен в рыцари: стал сэром Мартином.
Лиза во время экскурсии блаженствовала. Мартин прокатил ее на верблюде, нанятом у араба. Черно-белый снимок наездницы, большой и даже словно бы не любительский, а профессиональный, потом (17 сентября) был прислан почтой из Лондона, от нас попал в Ленинград и произвел там маленькую сенсацию.
Как и все прочие визитеры, Мартин не чувствовал некоторой бестактности своего визита, не понимал, какое для нас (или, во всяком случае, для меня) мученье отрываться от невероятно напряженной будничной жизни, целиком занятой вживанием, вживлением в новое общество. Он приехал в Израиль отдыхать, у меня же каждая минута бодрствования была на счету. Нужно было учить язык, писать статьи, читать, думать, искать работу — да что там: искать почву, на которую можно хоть одну ступню поставить целиком; сионизма-то в качестве такой почвы у меня под ногами не было. Я не мог отстранить впечатления, что мы, вырвавшиеся из СССР новые репатрианты, забавны англоязычным двудомным евреям в точности как домашние животные: такие же милые и беспомощные. Как не любить таких, не помогать им?
Обо мне Гилберт знал только, что я — из числа основателей ЛЕА (Ленинградского еврейского альманаха) и что в моей редакции получило известность письмо за свободную репатриацию: на мой вкус — чуть-чуть маловато. Спасибо ему; он держал на уме только хорошее. Хотел, между прочим, прокатить нас на поезде… Тут просто невозможно обойти один анекдот, с Гилбертом не связанный.
В городе имелась центральная железнодорожная станция, видом — небольшой каменный барак, по соседству с тюрьмой. Как-то в просвет этого вокзала я и вагоны видел, изумившие меня своей ветхостью. Ехать можно было на юг, к побережью, а дальше в Хайфу; но никто не ездил, все предпочитали междугородний автобус: быстрее и комфортабельнее; главное же — поезд ходил редко, чуть ли не раз в сутки. Вблизи от шоссе, которое вело к нам в центр абсорбции в Гило, проходила одноколейка. В Гило мы прожили три года; сотни раз я проезжал мимо одноколейки на автобусе в ту и другую сторону, а поезда на ходу так и не увидал; в последующие годы — тоже. Нашей соседке по центру абсорбции повезло больше. Возвращается она как-то домой из университета, и, глядь, по одноколейке поезд идет. Она изумилась, потому что тоже ни разу не видела такого за два года жизни в Гило. Стиль общения в Израиле непринужденный, в разговор люди вступают друг с другом с необычайной легкостью; все ведь вокруг братья и сестры. Изумление соседки не прошло в автобусе незамеченным. Пожилая женщина, уже выяснившая, что соседка — из России, сказала ей на иврите с улыбкой:
— Да, у нас и поезд есть. Ты, должно быть, никогда в жизни не видела поезда?
Уж не знаю, куда собирался нас везти Гилберт. По счастью, на поезд мы с ним не попали: то ли опоздали, то ли, хм, билетов не оказалось. Он говорит нам: не расстраивайтесь! Сейчас мы вместо этого поедем еще куда-то… Услышав это, я едва сдержался; почувствовал, что настала моя пора совершить бестактность, и сказал ему… нет-нет, не правду, на это духу не хватило, а полуправду: о неотложных делах дома… Полная правда состояла в том, что я не мог больше тратить время попусту.
Наша дружба не оборвалась. В моей коллекции — еще с полдюжины писем Гилберта. Семнадцатого сентября 1984 года он, с оказией, выслал нам из Лондона (тогда он жил: по адресу 7 Lansdowne Crescent, London W11) упомянутую фотографию Лизы на верблюде, причем в письме приглашает меня просить его о любой помощи, особенно в же в связи с изданием альманаха (Let me know if there is anything I can do, especially to publicise the Almanac), но альманах к этому времени был на самой периферии моих интересов… точнее, интересовал меня только как возможность заработать на редактуре и корректуре, если дойдет до печати по-русски. В тот же день отправил он мне почтой и другое письмо, где писал, что ему потребуется моя помощь в связи с подготовкой английской версии ЛЕА, что он напечатал о ЛЕА статью в Таймс и готовится издать альманах, почему-то в Цюрихе, как только получит перевод текстов на английский; ссылался на какое-то мое письмо от 11 сентября; сообщал, что будет выступать по отказницким делам перед президиумом загадочной Брюссельской конференции…
В моем ответном письме от 12 ноября я даю пояснения об авторах ЛЕА — и с недоумением спрашиваю Гилберта, как мог Яков Городецкий (еще сидевший в отказе) обвинить Ивана Мартынова в сотрудничестве с КГБ. Ибо дело повернулось именно так: Мартынова стали подозревать.
В том же письме я упоминаю, что иерусалимский Центр по исследованию восточно-европейского еврейства предлагает мне подготовить ЛЕА к изданию по-русски — и даже за вознаграждение.
Мои отношения с Эдуардом Усоскиным должны были испортиться и в итоге испортились. Произнося одни и те же слова, мы с ним напрочь не понимали друг друга — столь несхож был стиль жизни и подстилавшие нашу жизнь фигуры умолчания. При этом сперва я в нем просто души не чаял, потом он был мне симпатичен… Сейчас не поручусь, что я во всём был прав и в ходе нашей размолвки.
Пишу об Усоскине подробно, потому что его помнят многие (только года смерти никто назвать не может); благодарен ему буду всегда, это — главное в моем к нему отношении; но и другое из памяти не уходит.
30 августа 1984 года он писал мне из Тель-Авива:
«Edward Usoskin
13 Bilu Street, apt 8
Tel-Aviv 65222
Israel
Tel 03-229168
Уважаемый, почтенный и почитаемый поэт Юрий Колкер!
1. Нижайший поклон и привет Вашей супруге Танечке.
2. Вчерась отправил Вам Ваши документы в виде толстенного пакетища, так как там оказался и Ваш какой-то архив. Отправил не разглядывая, так как не было вовсе секундов. По получении, пож., не затруднитесь дать мне знать, чтобы снять с меня груз ответственности.
3. Прилагается письмо от Габриэля [Суперфина, архивиста с радиостанции Свобода].
4. Говорил с Леином ровно 3 минуты после того, как он слышал Ваше, Юра, интервью. Он был в телячьем восторге…
Письмо, на персональном бланке, с отпечатанной шапкой, содержавшей адрес, написано было от руки, и слово почитаемый в первый момент я прочел как погибаемый, что довольно точно выражало мое тогдашнее состояние: растерянность, катастрофическую нехватку времени, словом, полную погибель, притом не столько по вине людей и обстоятельств, сколько по моей собственной нескладности.
Документы пришли из русского отдела министерства иностранных дел. Леин (Лейн) — один из давних ленинградских отказников, с которым я разве что виделся, а знаком не был. Не знаю, о каком интервью пишет Усоскин: по Свободе или по Коль-Исраэль.
На отдельном листе шло приложение:
«Если Вы решили искать работу, то я Вам уже говорил, что в Иерусалиме я — пасс, нету у меня там, в столице надежных местов, заранее говорил и говорю. Вы-то сами уже готовы? Я, честно говоря, в этом не уверен: очень хорошо помню, как Вы все мои слова брали в штыки (не Вы первый и последний). Присылка C.V. это что, намек? Я же устраиваю одновременно всегда не менее 50-60 человек.
Слышал Вас по радио. Отлично. Отличные стихи, неплохо, но уж слишком как-то не боевито. Я понимаю. Вы попали в минор Канделя.
Попробуйте потолковать с Сотниковой. Я веду с ней переговоры, чтобы сделать ее Курьера нашей газетой, кот. можно было бы посылать в СССР и чтобы было бы не стыдно…»
(Эмма Сотникова издавала газету Иерусалимский курьер, просуществовавшую недолго.)
Я не ответил вовремя — и получил от Усоскина другое письмо с той же шапкой, датированное 8 сентября, с обычной у него припиской времени 11:26.
«Уважаемый Юра!
За мои долгие годы (мне уже без немногих дней 49 лет) я никак не могу привыкнуть к человеческой необязательности и не аккуратности, которые для меня схожи с подлостью, т. к. я их с трудом разделяю. Меня-таки, да, очень волнует дохождение документов, которые я Вам отправил и за которые несу ответственность, и не только потому, что за них расписался.
Убедительно прошу ответить на этот вопрос, т. е. пожалуйста проставьте только необходимые числа в прилагаемое к сему письмо.
Заранее большое спасибо за ответ…»
К этому, действительно, прилагался лист бумаги, уже содержавший мой ответ, написанный рукой Усоскина, с отточиями для времени и даты, причем обращение («мар Усоскин», то есть господин Усоскин) шло в нем на иврите:
«Мар Усоскин!
Настоящим сообщаю, что Ваше заказное письмо, в котором находились мои и моей семьи документы, а также мой архив, и за которые Вы расписались в Министерстве Иностранных дел, мною получены … час … день … месяц 1984 года.
. . . . . . . . . (Юрий Колкер)»
Сколько дней путешествовал архив, установить нельзя, а вот это замечательное письмо Усоскина от 8 сентября никак не могло попасть ко мне в руки ранее 19 сентября — просто потому, что получив такое, я, разумеется, рассвирепел, всё бросил и сел за ответ, датированный 20 сентября:
«Уважаемый Эдуард, будучи тоже не мальчиком (мне 38) и испытывая не меньше, чем Вы, отвращение к человеческой необязательности и неаккуратности (для меня, как и для Вас, они сходны с подлостью), я, тем не менее, — и в отличие от Вас — привык считаться с тем, что существуют системы ценностей, отличные от моей, а их носители не обязательно оказываются подлецами, когда ведут себя не так, как мне хочется. К человеческой необязательности и неаккуратности я отношу и словоблудие, бросание слов на ветер, особенно когда эти слова — обещания, данные другому. Однако когда выяснилось, когда Вы можете наобещать с три короба, а затем попросту забыть об этом и не нести никакой ответственности за свои слова, я не поспешил упрекнуть Вас; я сказал себе: у этого человека есть другие достоинства, и немалые; он очень занят, я же многим ему обязан; он мог забыть, такое случается даже с теми, кто любит аккуратность. (Среди наиболее поразивших меня Ваших обещаний, которые как в воду канули и — это важно! — не мною были Вам навязаны, не явились результатом моих просьб, а только Вашей инициативой, были например, такие: в форме категорического утверждения, даже не спросив моего согласия, Вы заявили: "в сентябре вы поедете в Англию"; Вы твердо пообещали: "Ханелис напечатает вашу (т.е. мою) статью о Мартынове и даже заплатит Вам, чего обычно не делает", и всё это — как если б дело находилось в Ваших руках; а чего стоит одно приглашение к Пэм на бар-мицву, с нею не согласованное?..»
Тут я должен прервать красноречивого оратора. Упомянутый Ханелис редактировал журнал Алеф, один из двух тогдашних израильских двухнедельных общественных журналов на русском языке. Алеф тянул в сторону религии. Второй журнал назывался Круг и казался светским, но оба, будучи сугубо демократическими (как и вся израильская жизнь), по культурному уровню были едва терпимы. В Круге я всё же что-то потом печатал, в Алефе — никогда… точнее, пока жил в Израиле. Потом, при другом редакторе, Алеф брал у меня вполне светские статьи из Британии; и даже платил… Пэм (Памела) Коэн — сколько помню, американская активистка репатриации.
Что до несостоявшейся поездки в Англию, то она, вероятно, и в самом деле планировалась министерством иностранных дел или Сохнутом, когда они исходили из моего облика, составленного заочно, но была отменена после моей беседы с Иланой Гуревич и моих публичных заявлений. Зачем посылать за казенный счет человека, прямо заявляющего, что он — не сионист? Требовался лозунг, лубок, а не «думающий человек». Деньги дают только под лозунг. Всего этого «думающий человек» тогда не понимал; верил, что он — подходящая кандидатура; в Англии побывать, естественно, хотел, но еще больше хотел побывать в Париже, у очага русской культуры…
Письмо у меня получилось чудовищное, и не только по размеру… но мы ведь с вами разглядываем нечто «сквозь волшебный прибор Левенгука», вот оно и разрастается. Всюду жизнь… Дальше там такое идет:
«Я сказал себе: бессмысленно обижаться и сводить счеты, у людей, находящихся в тесном контакте, всегда есть в чём упрекнуть друг друга. Теперь иное дело. Будучи впервые в жизни (да еще в письме) обвинен в подлости, я не вижу, почему мне не воспользоваться Вашей же аргументацией. Вы любите аккуратность — и Вас интересует, дошли ли до меня посланные Вами бумаги? — если это и впрямь серьёзная озабоченность, а не повод для амбиции, почему Вы не спросили меня об этом 12/09, когда мы говорили по телефону? почему не позвонили прежде? — ведь Вам это проще, чем мне. Вы забыли. А вдруг память изменила Вам и в другом: вдруг я информировал Вас о получении бумаг, а Вы не помните об этом? Весь тон Вашего письма показывает, что Вы и мысли не допускаете о том, что промах Ваш, а не мой. Вы — подвижник алии, кладущий жизнь на алтарь отечества, а я — бездельник, пребывающий на курорте, — вот подразумеваемый смысл Вашего отношения ко мне последнего времени. А я понимаю всё это иначе: Вы неспособны слышать никого, кроме себя, Вы выступаете как обладатель истины в последней инстанции, Вы всегда правы — и раздражены тем, что не все с этим согласны. Вы разочарованы во мне — пусть так, но к чему же грубость? Или, может быть, всё это случайность, шутка, невладение словом? — как Ваше заявление, что Вы хоть и с трудом, но всё же разделяете вещи, схожие для Вас с подлостью. Тогда позволительно спросить, в каких пределах простирается Ваша любовь к аккуратности и как Вы понимаете само это слово?
Как всё было бы просто, случись такая размолвка в XIX веке! Пара стволов Лепажа, пиф-паф — и бокал шамбертеня на сундук мертвеца. А тут весь пыл в слова ушел, в слова родного языка, обесцененные временем и местом.
В Вашем письме не написано, но угадывается еще одно слово: неблагодарность. С моей стороны было бы низостью забыть, что Вы опекали меня с первых моих шагов в Израиле, что Вы и Ирина расходовали на нас время, деньги и душевное тепло. Я и не забуду этого, и не отрекусь от этих моих слов (закрепленных настоящим письмом) даже после нашего разрыва, к которому Вы так настойчиво ведёте дело. (Помните ли, как неоправданно резко, на полуслове, Вы оборвали наш последний телефонный разговор? И вот ведь что странно: чем более деликатный тон выберешь с Вами, тем больше шансов нарваться на резкость. Но слово сказанное и слово написанное — отличаются; тогда я мог ошибиться, приняв усталость за грубость, не расслышав интонации и т.п.; зато теперь передо мною — документ редкой выразительности…) Но, быть может, Ваше участие в нашей судьбе — не бескорыстная помощь, а аванс, может быть, Вы купили право разговаривать со мной по-хамски? Я не верю в то, что это был сознательный расчёт — но Вы-то должны понимать, что Ваши поступки могут быть истолкованы столь унизительным для Вас образом.
Документы мною получены. Я был убежден, что сообщил Вам об этом — а возможно, и сообщил; если же нет, то забывчивость более чем простительна в моем положении. Час и день получения бандероли я указать не могу. Настоящее письмо ответа не требует. Просьбы, высказанные мною в последнем письме и телефонном разговоре, прошу считать небывшими…»
Словоизвержение… поток слов… Ну, не бездельник ли на курорте это писал? Сколько душевной энергии, сколько времени истрачено впустую! Но так вот я ценил в ту пору слово, такое значение придавал написанному… если угодно: такое значение придавал себе. Чем не портретная чёрточка? Через нее, однако ж, и эпоха проглядывает.
В Тель-Авив из Иерусалима письмо шло пять дней. Усоскин ответил на него двумя письмами, причем из второго видно, что о первом он забыл. Первое датировано: «26.09.84, 17:50»:
«Здравствуйте, почтенное семейство Колкеров! С новым Вас еврейским Годом [заметьте это Вас — с прописной! — при обращении к троим] и всяческими пожеланиями успехов, достижений, здоровья и отличного настроения. Юра, вчерась получил Ваше письмо, потрясшее меня до всеполного основания. Вы в нем наговорили такого идиотизма и чепухи, что мне было до боли стыдно за Вас. Не зная [sic] я Вас вовсе, я решил бы, что написано оно изнеженной кисейной барышней, которую во время душевных вздохов при луне некто обложил матом, притом матом четырехстопным. Ну ладно, бог Вас простит, а я тут же и забуду. Теперь по существу…»
Слово бог, заметим, написано полностью и со строчной, а не как у тамошних ханжей: Б-г. По существу Усоскин сообщал, что радио Коль-Исраэль подает на него в суд за клевету; что ему пришлось четыре раза по 50 минут выступать на ивритском радио, «подготовить 7 статей на иврите, побывать на встрече с президентом, Шамиром и массой других полу и полностью равнодушных людей», а первого сентября предстоит выступать по телевидению; что с министерством иностранных дел у него «натуральная война», и «всё это после 10-11 часового рабочего дня; если же я ухожу с работы, то потом должен вернуть эти часы». Дым коромыслом. Дальше шло:
«Не порите чепухи (извиняюсь за фривольный стиль, но я же не говорю "…" — еще раз извиняюсь). Никакого охлаждения у меня к Вам нет, тем более к Вашей семье. Никаких надежд на Вас я не возлагал, кроме надежд, что Вы не забудете тех, кто остался там. О каких интонациях, о чём это Вы? Обалдеть от Вас можно, честное слово. Я же сплю по 2-3 часа сейчас в сутки, мне ли до интонаций, когда я голоса с трудом различаю. Ну, Юра, полно Вам, не будьте курсисткой… Ваше Curriculum Vitae написано до неприличия неправильно, но типично (примерно то же самое писал и я, а может быть и хуже)…»
Однако ж 7 октября (в 18:43) он снова отвечает мне на то мое давнее гневное письмо, и опять — подобно мне — не забывает об автопортрете:
«Юра! Хотя ответа на письмо Вы не желаете получать, я всё же отвечу. Как видите письмо Ваше написано перед Судным днем, а я получил после оного, т.е. Вы мне ничего не простили, я того заслужил. Заранее сообщаю Вам, что я Вас простил даже за ваше письмо: оно просто дикое, до чудовищности дикое, но я видимо заслужил того. Т.к. Ваше письмо послано мне, то я его отправляю Пратту, с которым была договоренность о Вашей поездке (мой категорический тон на Вашей совести; Вы восприняли краткость и поспешность за категоричность), Ханелису, кот. мне твердо обещал опубликовать Вашу статью, но, честное слово, я этого не проверил. Естественно я пошлю это письмо Пэм Коэн, которая слезами убедила меня и жену пойти на Бар-Мицву, я редко прошу защиты, но тут я попрошу замолвить слово Льва Утевского. Естественно же, что я пошлю Ваше письмо и мой "жалкий оправдательный ответ" Наталии Марковой, Алику Зеличенку, Евгению Лейну, кот. называет меня "свирепым", т.к. близко пока что не знаком, но, познакомившись поближе, сможет сказать что-нибудь подобное. Самое неприятное для меня в Вашем письме то, что Вы пишете о чем-то мне совершенно непонятном: хотите обижайтесь (уже), хотите нет, но я о Вас, действительно, не думал: я сделал то, что мог и считал нужным, на Ваши письма я ответил; звонить Вам? — да мне это и в голову не приходило, т. к. я Вам уже писал; сплю 2-3 часа, подвижником алии [себя] не считаю, на алтарь ни голову, ни другие предметы не кладу — пригодятся самому. Звонить Вам — значит потратить минимум 40 мин, а их нет, этих 40 мин. Я уже, Юра, писал, что ждал и жду от Вас одного — не забыть тех, кто остался там; никакой благодарности мне от Вас не требовалось и не потребуется, более того, они меня раздражают; в самом начале я Вам сказал, что лучшая благодарность — это встреча тех, кот. когда-нибудь приедут сюда, и Вы их встретите теплом в аэропорту. Честно могу Вам признаться, Вы своего добились, на этот вечер Вы меня начисто выбили из колеи; я не могу сделать намеченное на вечер: других дел, Вы знаете, у меня нет. Может быть, Вы правы (помните, что Вы сказали после нашей встречи в Мисрад Ахуц? Вы сказали, что они звучали и были более убедительны, чем я, Наталья и Реувен), как и другие (очень и очень многие), утверждающие, что мешаю своими действиями, нетерпимостью и пр. пр. алие, проф. Лапидоту, а теперь вот Юрию Колкеру. В заключение прошу у Вашей жены, дочери и у Вас хоть и запоздалого отпущения и прощения в наш Судный день. Э. Усоскин…»
Два неистовых Роланда, только маленькие… Два автопортрета, один другого чище. Я хорош — и он не отстает. Обоих роднит чувство, что на их плечах — миссия (две миссии, не имеющие между собою ничего общего); каждый думает… нет, чувствует, что на него указует перст божий; каждый ходит перед богом, иначе ведь такой чепухи не напишешь. Но и чепуха кое-что сообщает не только о том, кто ее произнес.
Что ж, я унялся? Понял, что разговор закончен? Ничуть не бывало. В те времена мне требовалось, чтоб последнее слово оставалось за мною. Я не знал, что самый веский ответ — молчание. Но главное — я хотел правды, правды, хотел олицетворять правду, воплотиться в нее…
Тут вот еще что занятно: письмо Усоскина от 7 октября попало ко мне в руки… 21 октября! Еще одно чудо. Езды между двумя городами — 45 минут. В тот же день я писал ему:
«Эдик, я и без Судного Дня зла ни на кого не держу, тем более — на Вас. Прощать мне Вас не за что: Вы не ведаете, что творите. Возражать Вам бессмысленно: Вы не слышите собеседника. Я не миссионер, переделывать мир и людей не собираюсь, и принимаю как факт, что грубость — в вашей природе и что она мирно уживается в Вас с некоторыми превосходными качествами. Последними я даже готов восхищаться, но — издали, ибо Вам тоже придется принять как факт, что грубость для меня невыносима, что я не стану по своей воле иметь дело с человеком, не выбирающим слов и невзначай раздающим пощечины. Я Вам не враг, я всегда готов по мере сил поддержать наше общее с Вами дело и — будучи Вашим должником — услужить Вам лично. Но и только. Дружеское общение между нами невозможно, помощи Вашей я не приму.
Я оставляю без ответа новые грубости и саморазоблачительные нелепости, которыми полны Ваши письма от 26/09 и 7/10. Я не возражаю против распространения моего письма к Вам от 20/09, хотя сама идея и выбор некоторых адресатов и кажутся мне курьёзными. Замечу лишь, что любая публикация частного письма требует в свободном мире согласия его автора, а без такового — даже преследуется законом. Но я вообще готов отвечать за каждое моё слово, а за слово, мною написанное, — в любую минуту отвечаю жизнью, и здесь человеческий суд мне не указ, а мнение окружающих — не опора…
Отвечаю в день получения Вашего письма от 7/10/84. Предыдущее письмо оставлено мною без ответа по причинам, с Вами не связанным [подпись на иврите]…»
Смех и грех, но — красиво жить не запретишь.
Никогда я не забуду Усоскина, хоть моё никогда теперь недорого стоит. Отдаю дань его памяти. Замечательный был человек; цельный, не мне чета. Сегодня, четверть века спустя, всё еще храню (и пускаю в дело) его подарок: инструменты, всякие плоскогубцы, отвертки, молотки, напильники. Сомневаюсь, чтобы еще кто-нибудь, кроме меня, хранил его письма. Ясно вижу его в солнечный июньский день 1984 года: вот он, в шортах, майке и вьетнамках, входит к нам, в открытую настежь дверь нашей пещеры абсорбции, а в руке у него — пластиковый ящик с этими самыми инструментами, купленный на блошином рынке. Инструменты ржавые, но надежные. Служат исправно. Пережили его, переживут и меня. Даже гвозди и шурупы всё еще остались с той поры… из той страны…
Повторю удивительное: многие восхищались Эдуардом Усоскиным, многие обязаны ему (я — в том числе), но никто из опрошенных мною общих знакомых не смог вспомнить даты его смерти.
Публика в Израиле была наполовину чистая, как по другому случаю говорит Чехов: делилась на тех, в чьем обществе можно дышать, и на тех, кто глух к слову и культуре. Первые, конечно, не половину составляли, а крохотное меньшинство, но по значению — много больше половины. К этому меньшинству принадлежал Лев Утевский, ученый и художник, годами лет на десять с хвостиком старше меня. Уехал он за несколько лет до нас, но я еще застал его в Ленинграде, хоть в ту пору и не познакомился с ним. Именно с его лекции, в 1981 году, на окраине или в пригороде Ленинграда, в квартире Григория Кановича, началось мое приобщение к еврейству. Лекция ошеломила меня, и не в первую очередь новыми фактами (хоть и этого было предостаточно), а скорее уровнем их осмысления и культурой речи докладчика. Передо мною был европеец, сионист-европеец, один из тех, в чьем присутствии невольно вспоминаешь фантастическую фигуру Владимира-Зеева Жаботинского.
В Израиле Утевский поселился не там, где все, а в Беэршеве: нашел в пустыне работу по специальности. В годы нашего отказа о нем доходили смутные слухи; что-то и нас касалось; например, такое: он готов помогать нам с получением нового вызова только в том случае, если наша семья, получив разрешение, поедет в Израиль. Тогда же выяснилось, что он знаком с моим соавтором по математико-биологическим штудиям Ирой Зубер (Эврикой Эфраимовной Зубер-Яникум). Среди моих знакомых-отказников была и его дочь, Женя Юдборовская.
Я написал в Беершеву через месяц после нашего водворения в Иерусалиме, 19 июля 1984 года:
«Дорогой Лев,
мне поручено передать Вам привет от нашего общего друга Иры Зубер, что я с удовольствием и выполняю. Другое поручение исходит от Миши Бейзера: он не знает, получены ли Вами тексты его экскурсий [по еврейским местам старого Петербурга] и возможно ли поторопить их издание отдельной книгой; в случае, если таковое будет предпринято, он хотел бы, чтобы я осуществлял литературную редакцию книги, — как я это уже делал с его текстами для первого и третьего номеров ЛЕА.
От Лёни Кельберта я получил задание, к которому не знаю, как приступить. Им переданы в музей Бялика, через некую Сальфати, факсимиле пяти неизвестных писем Бялика и одной поэмы Хаима Ленского, расстрелянного в 1939 году, тоже — нигде не опубликованной. Лёня просит уверить сотрудников музея в подлинности этих документов — для чего сослаться на ленинградский источник: они были получены им от ныне покойного проф. Амусина, в свою очередь унаследовавшего их от (акад.?) Солодухи. Оба имени, как будто бы, хорошо известны в ученом мире. Амусин скончался незадолго до моего отъезда, и стало возможным назвать его имя. Как найти эту Сальфати, Лёня мне не объяснил, сказал лишь, что она из Франции, и может временно или навсегда вернуться туда в ближайшем будущем. О ней должны знать в Музее. Пожалуйста, помогите мне понять и выполнить это несколько расплывчатое поручение. Я еще очень беспомощен здесь.
С Женей [дочерью Утевского] я перед отъездом говорил по телефону: передаю Вам запоздалый привет от нее. Вообще же мы были знакомы мало и встречались редко.
Не будет ли у Вас возможности навестить меня?
Ваш [подпись на иврите]»
Женя Юдборовская была очень хороша собою — восточной, типично еврейской красотой, особенно терпкой при ее, Жени, некоторой холодности. Муж ее, человек религиозный, предпочитал, чтобы его, на идишистский лад, называли Мордке, отчего я, конечно, не мог внутренне не содрогаться. В связи с Женей мне всегда памятен один эпизод. Как-то пришлось мне забежать к ней по делу в ее ленинградскую квартиру. Попал я ровно после окончания очередного еврейского семинара, который вел Гриша Вассерман. Женя при мне кормила будущего раввина. С аппетитом съев жареную куриную ногу, Гриша ослепительно улыбнулся и сказал, вытирая пальцы:
— Видно, что курица была приготовлена добродетельной женщиной.
Юдборовские получили разрешение на выезд вскоре после нас, 9 декабря 1984 года вылетели из Ленинграда, в Израиле поселились по-соседству с нами: в Иерусалиме, в Гило.
С Ирой Зубер Утевского могли, среди прочих, свести научные интересы, а могли — художественные. Не знаю, рисовала ли Ира, но она обладала удивительным даром: как люди одним росчерком создают рисунки, так она одним движением вырезала из бумаги карикатурные портреты и целые сценки, причем портреты были неотразимо похожи, а сценки — выразительны и забавны. Потом этот дар принес ей имя художницы, в придачу к имени ученого. Как многие талантливые люди, она была капризна; мне это не нравилось. В письме от 8 декабря 1984 года, отвечая Р.З., я дал Ире не совсем лестную характеристику:
«Лев. У. писал Ире З. — и не получил ответа. Ира — человек со странностями и, пожалуй, не совсем правдивый, во всяком случае, — необязательный. Как это: нет темы для письма? Это простая отговорка лени и равнодушия. Письмо — не диссертация, оно само для себя тема…»
Сущим наслаждением было читать ответ Утевского от 24 июля 1984 года — даже почти безотносительно к его содержанию. Слог и мысль отвечали моим требованиям. Он писал, что будет в Иерусалиме в начале августа и очень надеется увидеться, а до этого — созвониться со мною: «имейте в виду, что если Вы позвоните мне (мой телефон 057-423148), то я тут же перезвоню Вам [на номер телефона-автомата], так что всё удовольствие обойдется Вам в один асимон». Как это было уместно! Проклятых асимонов (жетонов) всегда не хватало и купить в нужную минуту было негде (не говорю уж, что денег было в обрез).
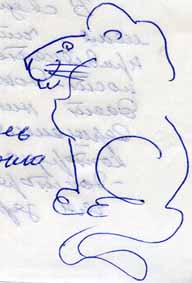
Материалы Бейзера (писал Утевский, обходя мой прямой вопрос) тотчас переправляются Мартину Гилберту, «который обещал подготовить к печати нечто вроде путеводителя The Jewish Leningrad». Главный вклад Мартина в это дело — его имя, «без коего шансы на какую бы то ни было публикацию, на мой взгляд, ничтожны… а идея редактировать Гилберта мне кажется несколько нахальной, т.к. он автор более 40 книг». Это было явное недоразумение: Бейзер имел в виду не английское, а русское издание его путеводителя, и не в Британии, а в Израиле; какой же я редактор для английского текста?! Дальше Утевский писал, что, по его сведениям, музей Бялика в подлинности присланного от Кельберта не усомнился — и сообщал мне координаты Chantal Salfati (с нею я потом встречался в связи с этими делами): рехов Бен-Закай, кв. 7., телефон 668899… Я, между тем, вглядывался в эту фамилию — и с изумлением видел, что понимаю ее этимологию: Сальфати — искаженное царфати: на иврите — французский, только и всего! Этимология — уводила в средневековье. А как занятно самое это слово! Еврейское имя Франции, Царфат, построено на трех основных согласных имени France, прочитанных справа налево.

Завершала письмо (хочется сказать: венчала) подпись: стилизованный лев, изображенный несколькими штрихами. Потом он появлялся под другими письмами — и всякий раз был чуть-чуть иной, но всегда узнаваемый. Хватило бы этой подписи, чтобы увериться, что Утевский — человек незаурядный.
Художником Утевский был вот каким: рисовал, сколько я понимаю, тушью, иллюстрации к Ветхому завету и еврейской истории; брал цитату, непременно на иврите, обычно с английским переводом (английский он знал основательно), и сопровождал ее графическим комментарием, романтическим по духу, авангардистским по исполнению. Передо мною открытка, изданная Центром информации о положении советских евреев (в качестве адреса издателя указана квартира Юры Штерна: Гило 404/4), с цитатой из Исхода (17:12) «И были руки его подняты до захождения солнца». Ивритский текст, сильно стилизованный, идет белым по черному. Небольшое белое солнце виднеется вдали в обрамлении моисеевых ладоней, несколько страшноватых на вид. В открытке — поздравление от Льва и Наташи с еврейским новым годом; дата: 25.09.84.
Утевский помогал мне с поисками работы: говорил обо мне с неким Зарицким из беершевского института прикладной биологии и сельского хозяйства, о чем рассказывает в письме от 8 октября. Зарицкий «сначала очень обрадовался, прочитав Ваш curriculum vitae, и даже произносил всякие слова в духе, что это-де именно тот человек, который ему нужен», но после разговора с начальством выяснилось, «что шанс на включение кого бы то ни было в штат по истечении времени стипендии равен 0… а если организация с самого начала не даёт гарантии (точнее обязательства) абсорбировать учёного по истечении срока стипендии от Центра абсорбции ученых, то обычно Центр абсорбции просто отказывается эту стипендию в эту организацию давать — тем более что это не стипендия, а нормальная зарплата, не отличающаяся ничем, кроме того, что ее платит Центр абсорбции». На худой конец можно было бы попробовать (пишет Лев со слов Зарицкого) получить в том же институте пост-докторантуру на два года, но и тут деньги пойдут не от института, стало быть, требуется согласие того же Центра абсорбции ученых.
Ничего с этим не вышло. Взвесив все за и против, я решил и не пытаться. Даже Иерусалим всё еще не стал для меня срединным храмом, Беершева же казалась полным захолустьем.
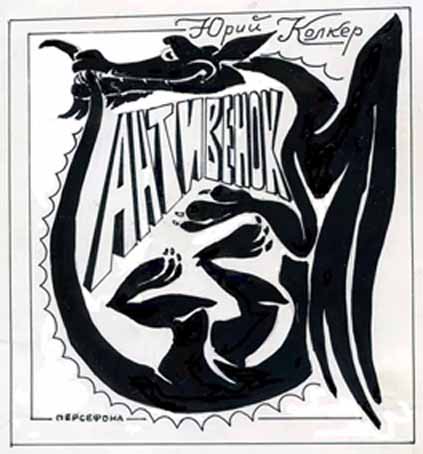
По своему обыкновению, за всё добро я отплатил Утевскому если не злом, то бестактностью. В 1986 году мне срочно приспичило издавать вторую книгу стихов, не книгу даже, а тонюхонький сборник под названием Антивенок: венок сонетов, в котором ямбами объясняется, почему не стоит писать венков сонетов. Что за спешка мною владела, понять нельзя, а только я позвонил Утевскому и просил его срочно сделать мне рисунок для обложки: дракона, кусающего себя за хвост. Утевский посетовал, что я не сказал ему заранее, бросил какие-то важные дела, нарисовал дракона к сроку и прислал вовремя, а мне — рисунок не понравился. Рисунок был замечательный, я его и сейчас храню, да вот беда: он шел вразрез с моим нарочитым консерватизмом, с моей картонной войной против авангарда. Он и не мог быть другим, этот рисунок. Почему я не подумал вовремя, что мы с Утевским эстетически — в разных лагерях? И вот, изводясь своим поступком, я всё же не использовал этот рисунок — чем, конечно, незаслуженно обидел Льва. Вместо этого, с книжкой Хоббит под мышкой, я отправился в соседнюю пещеру абсорбции к москвичке Розе Горелик, которая немножко рисовала, и попросил ее перерисовать и чуть-чуть подредактировать совершенно традиционного, пошловатого (не чета нарисованному Утевским!) дракона с обложки русской книги Толкина. Сейчас — жалею, не только винюсь. Ни одна живая душа не поняла бы и не почувствовала моих тогдашних соображений, важных только для меня, и я не мучился бы всю оставшуюся жизнь угрызениями совести.
Однако ж угрызения угрызениями, а нутро берет свое. В 2005 году, когда я уже 16-й год жил в Англии, Утевский (великодушный человек зла не помнит) прислал мне электронной почтой фрагмент своих воспоминаний — с вопросом, интересно ли это и стоит ли публиковать. Текст меня раздосадовал — и я перенес свое раздражение на вопрос: ответил ему в том духе, что, мол, пишут от потребности выговориться, а не заинтересовать. Если повезет, выговоренное оказывается интересно другим, автору же оно обязательно должно быть интересно; «пораженья от победы он сам не должен отличать»; иначе и писать не стоит. То же и с публикацией: публикуем — от потребности обнародовать. Рассылка в несколько электронных адресов — уже публикация… Всё это было хоть и правдой, но пустым резонерством. Будь вопрос сформулирован иначе, а главное будь текст убедительнее, я бы в риторику не ударился.
Текст Утевского показался мне плохо написанным и по части языка (ломким, как перевод; да сверх того слова английский и русский автор писал с прописной буквы, что вызывает у меня холодное бешенство), и по тону, в котором мне почудилось излишнее самолюбование, тогда как сам я принимаю в мемуарах самоутверждение только через саморазоблачение. Одним из тезисов Утевского было: я всегда с достоинством нес свое еврейство, никогда не чувствовал ущербности, не унижался. Я написал ему, что цельность — завидное качество; я, во всяком случаю, ему завидую: и качеству, и Утевскому, но мне, человеку ущербному, четвертованному на колесе истории, кажется, что не цельность и самодостаточность интересны в литературном сочинении, а как раз мучительные, даже безысходные состояния человека, среди них — и двойственность положения русского еврея в современном мире. Написал я всё это, по своему обыкновению, корректно, но жестко. Зачем? «Жесток человек, — вздыхает Герцен, — и одни долгие испытания укрощают его; все мы беспощадны и всего беспощаднее, когда мы правы…»
Но еще правее был Утевский, прекративший мне писать. Собственно, он не то чтобы прежде писал мне, он пересылал всяческие статьи, фотографии, вообще сведения, которыми через электронную почту по кругу обмениваются сегодня все, кто немножко думает, в основном евреи. Ну, и перестал пересылать. Коль-акавод, как говорят на иврите; полное почтение. Я несколько раз обманул его ожидания; оказался чужим, бестактным, неблагодарным. Это всё правда. А вот другая правда: я пишу о себе, и Утевский — драгоценная часть моей жизни.
Вот говорят: стихи переводить нужно. Поэты, как яблоко, румяные, живёхонькие, кинулись, едва забрезжила свобода, устраивать себе переводы на иностранные языки — и тем выдали себя с головой: не стихи они любят, а славу, притом дешевую. Стихи мало что сообщают в отрыве от звуков родного языка да скрытых цитат. В переводе — чужие звуки возникают, чужие слова, притом и написанные-то не тобою. Метафоры в девяти случаях из десяти прямой передаче не поддаются, звучат дико. Английский поэт Джордж Герберт (1593-1633) говорит: «Отведай моего мяса» — в стихах, где речь о любви к Богу, — а что по-русски получается? Даже имя твоё — и то звучит неправильно. Спустя столетие, с любовью вглядываясь в минувшую эпоху, еще можно что-то понять, почувствовать, чем жил человек, а при жизни чепуха выходит; стыд и срам.
Как сейчас помню: я этому человеку всё душу выложил; изводился — так хотел быть понятен и точен. Звали корреспондента Аарон Долев. Представлял он Маарив, иерусалимскую вечерку, газету очень правую (левые никогда бы не стали писать о репатрианте из первой в мире социалистической страны). Явился он в нашу пещеру сам, я славы не искал. Долев, между прочим, — слово значащее; на иврите — платан. Говорили через переводчика; им вызвалась быть поэтесса Рина Левинзон. Но что же этот Платан услышал?

В праздничном выпуске Маарив от 10 октября 1984 года нашей семье посвящена целая страница. Треть страницы занимает черно-белая фотография: Таня, десятилетняя Лиза и я — за чайным столом в нашей коммуналке на улице Воинова, д. 7 кв. 20. Я что-то трактую с важным видом, персты у меня воздеты на уровень бороденки. Таня улыбается, Лиза во все глаза глядит в объектив. Кто снимал? Не Володя ли Иосельзон, первый фотограф второй литературы? Заголовок статьи — «Запах крови опять поднимается. Невозможно молчать!», и это будто бы мои слова. По счастью тут же написано, что так сказал Юлий Колкер. Большое облегчение. Всё-таки, выходит, не совсем я.
«Нет сомнения, что цель новой программы правительственного гнета в СССР — окончательное решение еврейского вопроса, — предостерегает Юлий Колкер, который только что приехал в Иерусалим из Ленинграда. — Нельзя не видеть тревожных сигналов; нам, евреям, не пристало снова усыплять свою совесть…»
Вот примерно так получается в переводе. Я же — говорил ему, что прямых убийств пока не ожидаю, а вижу погром тихий: всё общество сверху донизу проникнуто деятельной неприязнью к евреям, замешанной на зависти, переходящей в ненависть. Где можно, оттолкнут, не пустят, поставят подножку — притом не только в государственных учреждениях (там с этим свыклись, там это списывается на волчью природу большевизма), а в кругах «нравственного сопротивления» режиму, среди по видимости честных людей, где это ранит не в пример сильнее.
«Он был в первых рядах еврейских активистов Ленинграда. Сейчас — живет в центре абсорбции. Наконец-то завершилась мучительная одиссея Юрия (38), его жены Тани (38) и их дочери Лизы (10). Юрий, молодой ученый, работал дворником и истопником во время четырехлетних гонений по обвинению в еврейском сионизме [иначе не перевести; между прочим, я постепенно из Юлия становлюсь Юрием; в другом смысле тоже очеловечиваюсь].
— Кровавых погромов нет, — говорит Юрий, — пока еще нет, однако ежедневно обновляются жестокие запреты, учащаются случаи антисемитских выходок, а сверху сплошным потоком идет натравливание толпы на евреев. Вернулись мрачные сталинские дни. Нельзя молчать, нужно бить тревогу.
В Юрии Колкере осуществилось чудо еврейского возрождения. Воспитывая своего голубоглазого сына, родители никогда не говорили ему о евреях и еврействе. Они стояли за ассимиляцию.
Абсолютно нееврейская внешность обоих, унаследованная дочерью, смягчала для них советский антисемитизм…»
Есть, есть некоторая правда в журналистике, но как ее мало!
Феликс Кандель — в самые первые недели нашей жизни в пещере абсорбции — сделал нам еще один подарок: принес список издательств, журналов и газет, которые могли пригодиться сочинителю. В списке было шесть пунктов в следующем порядке (пояснения мои): (1) Эрмитаж (издательство Игоря Ефимова в США); Посев и Грани, два журнала второй русской эмиграции (преимущественно партии НТС) в Германии, первый — политический, второй — литературный; (3) издательство ИМКА-пресс в Париже (Кандель приписал, что там работает Рада Аллой); (4) Континент в Париже; (5) Русская мысль там же; наконец, издательство Ардис Карла Проффера в США… И всё. Кандель не включил в свой список журнал Двадцать два — вероятно, потому, что я уже не мог не знать его.
Я понимал, что Запад — не земляничная поляна русской литературы, но что возможностей так мало, вообразить не мог. Конечно, к этому моменту я уже знал о журнале Страна и мир; глядел на него во все глаза. Позже, на том же листе бумаги, полученном от Канделя, я приписал четыре адреса американских изданий: Время и мы, Нового журнала, Нового русского слова, Нового американца. Теперь уже список точно был полон. Вот и публикуйся…
В последних числах августа и в начале сентября я разослал по этим адресам подборки стихов: в Русскую мысль, как уже сказано, два стихотворения; в журналы — по десять, причем, конечно, посылал разное; тогда казалось немыслимым публиковать одно и то же в разных журналах, хотя бы и в разных странах. Письма были составлены по одному образцу; в каждом я подробно представлялся. Вот, например, письмо Максимову в Континент от 31 августа:
«Многоуважаемый Виктор Емельянович,
предлагаю несколько стихотворений для Вашего журнала. Быть может, Вы вспомните, что я уже был в 1981 году Вашим автором (Континент №29). В июне 1984 мне и моим близким удалось выехать из Ленинграда — после пяти отказов и четырех лет ожидания. Сведения, данные обо мне в №29, не совсем точны. Я родился в Ленинграде, там же окончил физико-механический факультет Политехнического института, а в 1978, съездив в Красноярский институт физики, получил степень кандидата физико-математических наук. Стихи пишу с детства, с 1952, они всегда были главным содержанием моей жизни. В России, в 1972-75, я сделал девять журнальных стихотворных публикаций: в журналах Нева (2), альманахе Молодой Ленинград, еженедельнике Ленинградский рабочий; в Москве: в альманахе Родники и журнале Студенческий Меридиан [что под псевдонимом, об этом не сообщаю]; в провинции: в журналах Простор, Неман, Звезда Востока. Если в Вене уже вышли Гумилевские Чтения И.Ф. Мартынова, то в них — моя вторая, после Континента, зарубежная публикация [то есть я еще не знаю ни про публикацию в Русской мысли, ни про публикацию в Киноре], а также небольшая статья [на самом деле — две: Пассеизм и гуманность и Вечер памяти Ходасевича]. В 1983, в Париже, вышел составленный и прокомментированный мною двухтомник В. Ходасевича [а то он не знал!]. В самиздате я участвовал с 1980, в журналах: Диалог, Часы, Обводный Канал, Молчание, ЛЕА (Ленинградский Еврейский Альманах). В 1982, в компании с тремя другими ленинградцами, я составил сборник Острова — антологию неофициальной ленинградской поэзии за последние 30 лет, разошедшуюся в машинописи. Последние четыре года в Ленинграде работал кочегаром. В мае с.г. получил, наконец, разрешение на эмиграцию — причем у меня даже не спросили вызова.
Пожалуйста, сообщите мне, могу ли я рассчитывать на гонорар за стихи, опубликованные в №29. Мы нуждаемся; при мне тяжело больная жена (поэтесса Татьяна Костина, участница Островов) и десятилетняя дочь. В России мы были бедны как церковные мыши.
Прошу Вас об одолжении передать Виолетте Иверни посланный ей через нас привет от нашего общего друга Е. Игнатовой. Почтительно [подпись по-русски]…»
Сейчас — морщусь от словосочетания неофициальная поэзия: разве бывает поэзия официальная?! Вся поэзия неофициальна. Правильно было бы: неподцензурной. Но этот оборот, который я впервые услышал от Эдуарда Шнейдермана, принят по сей день. В остальном — ни отнять ни прибавить; всё в этом письме выверено и рассчитано с айдесской прохладой. Протянут руку — спасибо, откажут — обойдусь… Отношения между израильтянами и русской нееврейской печатью были мне совершенно непонятны. Отношение ко мне — оставалось полной загадкой. Я ждал худшего и правильно делал. Из двух вероятных отказов отказ от еврейского мира представлялся мне куда более страшным; антисемитизм, пусть хоть интеллектуальный, — худшим из мыслимых оскорблений.
Максимов не ответил, но стихи опубликовал. Двадцать два — тоже. Американский Новый журнал и американский же Время и мы (шутка состояла в том, чтобы называть его: Время и нас) не ответили и не опубликовали. Я так никогда в них ни строки и не напечатал. Зато Грани — ответили, и как! В лучших традициях.
«Глубокоуважаемый господин Колкер!
Спасибо за присылку Ваших стихов и за предложение писать для нашего журнала. Сразу на честность — стихи Ваши не пойдут. А вот если Вы что-то существенное можете сказать о ленинградской второй литературе — это вполне могло бы даже пойти. Только заранее ничего обещать Вам не можем. Мы выносим решение только по получении рукописей. Если у Вас что-то уже есть — пришлите. Правда, №134 уже идет в набор, а №135 (т.е. первый номер следующего года) почти укомплектован, но так бывает всегда — присланный сегодня материал в редчайших случаях идет ранее, чем через два номера. Это — правило, иначе невозможно просто работать. Как понимающий в деле составления журнала Вы это, конечно, поймете.
Всего Вам доброго.
М. Рубцова
Отв. секретарь»
Каков слог и полет мысли! Как умилительно, как упоительно это даже! Я, естественно, не стал любопытствовать, как госпожа Рубцова понимает честность. Не помню, при ком она состояла секретарем. После смены главного редактора я печатался в Гранях. Там вышла и моя статья о Бродском, по поводу которой спорят уже двадцать лет.
Советы шли сплошным потоком; каждый посетитель советовал нам сделать то-то и то-то для нашего блага и скорейшего устройства с жильем и работой. Дверь в нашу пещеру не закрывалась, от советов голова шла кругом. Страна советов! Казалось, что и возможностей — тьма. Глаза разбегались. Какой контраст с Россией, где небо с овчинку! Всё хотелось попробовать. Не хватало одного: молодости…
Прослышал я среди прочего о русском литературном конкурсе имени Розы Этингер. Мне говорят: позвони Любошицу, это известный врач, председатель комиссии по присуждению; он скажет, каковы условия. Я сперва отнекивался; говорил, что дело-то не израильское, а русское. Добрые люди настаивали, и я уступил. Звоню, представляюсь; говорю, что я — вчера с самолета, но в Париже вышел у меня двухтомник Ходасевича, еврея разве что по происхождению, да и то наполовину, а по интересам — так и вовсе русского; спрашиваю: как вы полагаете, можно ли и стоит ли выдвигать эту книгу на премию. Любошиц отвечает: вы принесите книгу. Я говорю, что нет у меня экземпляра, потому что я вчера с самолета, а книга есть во всех крупнейших библиотеках мира. Он — не понимает, настаивает. Я тоже не понимаю… Но когда книги мне из Парижа прислали, я все же пожертвовал один экземпляр двухтомника, сопроводив его письмом к Любошицу от 28 октября 1984 года:
«Многоуважаемый Эмиль Соломонович,
прочитав об объявленном Вами конкурсе, представляю Вам на суд мою работу: двухтомное Собрание Стихов Владислава Ходасевича, вышедшее в Париже в 1983, — мною составленное, снабженное очерком жизни поэта и подробно прокомментированное. Как труд жизни В. Ходасевича, так и моё изыскание о нём, принадлежат к русской литературе и имеют лишь косвенное отношение к культуре еврейской. Последнее выражается, во-первых, в происхождении Ходасевича, и, во-вторых, в том, что он был популяризатором еврейской поэзии в России, в частности, открыл для русского читателя Шауля Черниховского (Переводы из еврейских поэтов помещены во втором томе. Они признаны классическими ещё при жизни В. Ходасевича и принадлежат к числу его наивысших достижений.) Таковы основания, на которых я выдвигаю двухтомник на израильскую премию. Мне они кажутся достаточными, между прочим, еще и потому, что символизируют трагедию моего поколения: тех, кто вырос в полностью ассимилированных семьях и навсегда связал свою судьбу с (некогда великой) культурой оттолкнувшего их народа. Признание этой трагической двойственности кажется мне несравненно более достойным, чем попытки заслониться от неё. Я в одинаковой мере не понимаю ни тех, кто равнодушен к Израилю, ни тех, кто спешит отряхнуть со своих ног прах старого мира — Россию, с которой мы связаны языковым родством. Я убежден, что такого рода реализм, осужденный многими современниками, получит благодарное признание потомков. О себе сообщаю следующее…»
Ужасно было жалко отдавать двухтомник — и по сей день жалко, что отдал. Дело, я чувствовал, безнадежное, а главное — некорректное. Сбили меня с толку не две вещи: утихавший хор похвал моей работе и, странно вымолвить, всегдашнее моё желание угодить, уступить самым страстным доброхотам, не обмануть их ожиданий. В мелочах-то — отчего ж и не уступить? Сбивали с толку и слова русский, литературный. Что премия была новая, только что учрежденная, я не знал; уже по одному этому, по своей новизне, она не мне предназначалась, а тем, кто успел основательно зарекомендовать себя в израильском обществе.
Но будь премия и старая, а местные честолюбцы — сытыми, будь для моего двухтомника место и время самые благоприятные, всё равно я немедленно погубил всё дело этим письмом. Какая, к чорту, «трагедия моего поколения», какая «трагическая двойственность»?! Ты на родине — наслаждайся ею, воспевай ее русским литературным языком, если уж иврита не знаешь. Только это и могло найти отклик в комиссии; только прямой, незамутненный сионизм — хоть бы и в исполнении самой Нелли Гутиной. Русское слово с его борьбой эстетических направлений (главное содержание моей работы), даже культура как таковая — ничего тут не значили… Скажу больше: в лауреаты, при попутном ветре, можно было по ошибке въехать; фамилия Ходасевич звучит очень по-еврейски; хадаш на иврите — новый, ходеш — месяц. Был же в 1975 году премилый случай. Нашлись энтузиасты, предложившие назвать одну из улиц в Иерусалим именем Шостаковича, — и нашелся министр, который их поддержал словами: «Конечно, нужно назвать улицу именем нашего еврейского композитора Шостаковича…»
Никогда и нигде не выпадало мне на душу столько человеческого тепла, как летом и осенью 1984 года в Израиле. Никогда в таком множестве не окружали меня симпатичные, умные, замечательные люди. Но по другому счету одинок я был совершенно так же, как в Ленинграде — и как потом буду одинок в Лондоне.
Приоритеты распределялись так: на первом месте шло издательство Карла Проффера Ардис, с которого началась всемирная слава Бродского в России. Второе и третье место делили парижское издательство La Presse Libre при Русской мысли и Эрмитаж Игоря Ефимова, географически — Ann Arbor, штат Мичиган; там же, где и Ардис. Париж был ближе, но Мичиган всё же опережал его на полноздри, потому что там не подразумевалось православия. Эрмитаж издавал литературу. Игорь Ефимов, сам прозаик с прекрасной репутацией (хоть мною и не читанный), происходил из Ленинграда; у нас даже были общие знакомые: ленинградский отказник Эдуард Марков, к которому я ездил советоваться, когда угодил в отказ (в 1984 году Марков всё еще сидел в отказе, а мне вот счастье улыбнулось).
Но самым первым приоритетом, первее первого, было не где, а что: издание книги стихов. Сейчас, когда книгу издает каждый (даже те, кто не написал), не объяснишь, что это значило для полуподпольного автора: что в связи с этим мерещилось бедному сочинителю в черном бархате советской ночи.
Седьмого сентября 1984 года я отправил письмо в Ардис:
«Дорогой г-н Проффер,
прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности издания в Ардисе книги моих стихов, макет которой прилагаю к настоящему письму. Я покинул Ленинград в июне 1984 и еще не успел полностью восстановить других моих книг, получивших распространение в самиздате. Всего мною составлено четыре стихотворных сборника (примерно такого же объема, как прилагаемый) и антология [Острова] неофициальной ленинградской поэзии за последние 30 лет, подготовленная мною в 1982 в компании с тремя другими литераторами. Пожалуйста, сообщите мне, представляют ли для Вас интерес мои стихи и упомянутая антология, и если да, то каковы Ваши условия. Живя в России, я [дальше стандартный повтор о себе]…
Я слышал, что в Вашем городе живет (и даже как будто работает в Вашем издательстве) поэт Алексей Лосев. Решаюсь просить Вас об одолжении передать ему следующее: я собираюсь публиковать большую статью о стихах его отца; быть может, он пожелает прочесть её до публикации — в этом случае пусть он мне напишет, и я незамедлительно вышлю ему копию таковой.
Приношу свои извинения за то, что пишу Вам по-русски.
Почтительно, …»
Не скажу: всегда, нет, а всё же в большинстве случаев я сторонился протекционизма, старался обращаться в редакции с улицы, без литературной рекомендации, показывать товар лицом. В хорошие времена — твердо держался этого правила. В минуты растерянности — случалось, отступал от него. В сущности, Страна и мир — не такое уж и отступление: я писал незнакомому человеку, подчеркивая, что подкрепляю своё письмо ссылкой на человека едва знакомого. Естественно, этот путь не сулил хорошего и был уставлен капканами, в которые я то и дело попадался. В письме Профферу бестактность допущена уже в обращении; следовало, конечно, писать: профессор Проффер. Я и знал, что он профессор. Бес меня попутал потому, что это сочетание казалось мне недопустимой аллитерацией: оба слова начинались на проф и кончались на р.
Какие «четыре стихотворных сборника»? Первый, Послесловие, действительно, существовал как законченный цикл (даром что я не включил в него ряд самых важных для меня стихотворений — по соображениям, далеким от литературы). Два других — Ex Adverso (от противного; он потом вышел как Далека в человечестве в 1991) и Ночные травы (вышел, с большими дополнениями, как Завет и тяжба в 1993) — еще дорабатывались, особенно второй. Что я имел в виду под четвертым, не совсем ясно: Кентавромахию (которую не собирался издавать) или Антивенок (напечатанный в 1986 году). Профферу был послан сборник Ex Adverso. Послесловие я приберегал для Израиля или Парижа.
Со своими стихами я собирался проделать (и в итоге проделал) такое, чего никто из вольноотпущенников никогда не делал: никто из эмигрантов, никто из авторов, начавших издаваться при наступлении свобод в 1990-е годы. Я положил себе зароком: издавать и печатать не лучшее, а хронологические пласты. Проклятые большевики отняли у меня чашу на пире отцов: возможность развиваться вместе со своими публикациями, расти от публикации к публикации, от книги к книге. Лучшие годы потеряны. Но вот я на свободе, хоть и поздно, — и тут уж воспроизведу в своей оранжерее украденные у меня годы, разверну себя шаг за шагом, потому что это ведь важно для меня; потому что я не хочу по чьей-то прихоти устраивать в своей жизни путаницу и неразбериху. Разумеется, эта философия подкреплялась незыблемой верой в провиденциального читателя — и некоторым пренебрежением к современности.
Ход мысли вполне идиотский, если иметь в виду признание или славу, но совершенно естественный для человека, решившего не играть в чужие игры. Было тут и другое: боязнь опростаться и остаться ни с чем. Окружающая среда напрочь отрицала русское стихотворчество иначе как в сионистском ключе, но этот путь был для меня закрыт: пить из ключа столь всеобщего казалось мне дешевкой. Во-первых, я не был сионистом. Во-вторых и в главных, это был самый легкий путь; это был конформизм. Коллективная мечта, пусть хоть высочайшей пробы, — то же, что индивидуальная влюбленность: она — готовый материал для стихов, но недорого стоит без мечты индивидуальной… Вообразим, что я разом публикую всё лучшее, а мой ключ пересыхает: c чем я останусь? кем становлюсь? Чего ради мне жить? Наконец, было и такое соображение: стихи — крепкий напиток; книгу объемом более полутора тысяч строк никто не прочтет за один вечер, значит — не прочтет никогда.
Ответа из Ардиса мне пришлось ждать долго: несколько месяцев.
Игорю Ефимову я написал еще раньше, чем в Аридис: 26 августа 1984 года.
«Дорогой Игорь,
примите, пожалуйста, привет от наших общих знакомых, Милы и Эдика Марковых. Я видел их в этом году, но не перед самым выездом (состоявшимся 17.06.84), а несколько раньше. Мы познакомились в 1979, в гостях у покойного С.М. Белинского (которого, кажется, Вы также немного знали) и близкими друзьями не стали, однако общие отказницкие, кочегарские и литературные судьбы нередко сводили нас в эти годы. Эдик советовал мне обратиться к Вам как издателю еще из России, когда группа моих зарубежных друзей пообещала организовать складчину для издания книги моих стихов. Кажется, они еще не передумали помогать мне, поэтому прошу Вас рассмотреть прилагаемый макет моей книги и сообщить мне Ваше отношение к возможности издания ее в Эрмитаже, а в случае согласия — и Ваши условия. Я с благодарностью приму также и все Ваши критические замечания о моих стихах, если Вы пожелаете высказать таковые. О себе сообщаю следующее [дальше идет стандартный набор, но с отклонениями, адресованными ленинградцу:] В 1974 мне оставалось только поставить мою подпись под договором на книгу стихов в Советском писателе (редактором должна была быть К.М. Успенская), но начальственный звонок предупредил это: главному редактору А. Чепурову посоветовали Колкера не издавать… Из официальных ленинградских поэтов мы (моя жена и я) дружили с А. Кушнером, стихи которого высоко ценим; однако эта четырнадцатилетняя дружба не была ни ровной, ни безоблачной.
Не сочтите, пожалуйста, навязчивостью этот автобиографический набор. Я видел свой долг вежливости в том, чтобы коротко представиться Вам.
Хорошо зная Вашу занятость, надеюсь всё же, что Вы выкроите время для прочтения прилагаемой к письму небольшой рукописи и ответа её автору. Искренне Ваш…»
Ефимов ответил 14 сентября. Начинал с вопроса: «Неужели еще выпускают?» Вопрос был хоть и риторический, но самый правомерный: за весь 1984 год из СССР выехало менее тысячи человек — евреев, немцев, армян, всех. Полный минимум выезда пришелся на следующий, 1985-й, год. Ефимов писал: «Нам понравились Ваши стихи… тонкий аромат петербургской поэзии слышен почти на каждой странице. А это для нас значит очень много…» Дальше шли слова об убыточности русской поэзии и условия издания: на сборник тиражом 500 экземпляров требовалось 1500 долларов. «Потом Вы (или Ваши спонсоры) будут получать по 35% с каждого проданного экземпляра. (40% мы отдаем книгопродавцам в виде скидки, так что нам остается только 25% — на хранение, рекламирование, рассылку)…» Слово спонсоры впервые вошло в мое сознание; по-русски я его не встречал. Ефимов посылал образцы шрифтов, предлагал выбрать формат. Для начала работы нужен был аванс в 400 долларов. «Дело, однако, осложняется тем, что, насколько я знаю, сейчас запрещена отправка валюты из Израиля». Будто у меня были эти 400 долларов! То есть, может, и были; может, и 800 было, с учетом денег, полученных от Сони Эйдельберг, но этим исчерпывались все наши сбережения — при полном отсутствии заработков и ясных перспектив.
Сейчас понимаю: условия были более чем великодушными; вероятно, и вполне бескорыстными. Если б я мог заглянуть в будущее, я признал бы их фантастическими: издательство само распространяет книги, притом в хорошей стране, где есть покупатели. Но тогда деньги показались мне непомерными (по сегодняшнему — это было бы полных три тысячи). Просить о такой сумме друзей (на деле только Аню и Юру Гольдбергов в Канаде, Вику и Женю Левиных в Нью-Йорке) мне было неловко — ведь не о голоде же шла речь, а о блажи. Тлела у меня в сознании и совсем непристойная мысль. Нет, не любовь народную я надеялся завоевать разом (притом не лучшими своими стихами); я думал, что мое имя уже вызвало к этому времени некоторое эхо в связи с другими — нелитературными — делами, и это эхо могло бы способствовать распространению книги, значит — и более мягким условиям. А хуже всего было вот что: на моё «Дорогой Игорь» (казавшееся нормальной вежливостью между людьми одного круга) Ефимов отвечал: «Здравствуйте, Юрий Колкер!». В сущности, этот пустячок и решил всё дело. Разве так мне писали из Русской мысли? Ответил я только 4 декабря 1984 года:
«Дорогой Игорь,
спасибо за Ваше любезное письмо от 10/9. Всё это время я откладывал ответ со дня на день, надеясь сообщить Вам нечто конструктивное, — и вот пишу, так и не дождавшись ответов не только от моих спонсоров, но и от должников. Итак, издание моей книги откладывается на неопределенный срок. Признаюсь также, что названная Вами сумма примерно в полтора раза превышает ту, на которую я рассчитывал. Затем, местные литераторы уверяют меня, что здесь это можно сделать гораздо дешевле, — всё, или хотя бы набор. Не согласитесь ли взять на себя исполнение и распространение книги, набор которой сделают в Израиле?
Ещё в Ленинграде я написал большую статью о Владимире Лифшице, отце Алексея [sic; таков поначалу был его псевдоним] Лосева — и собираюсь ее печатать. Говорят, Лосев живет в Ваших краях. Не возьмете ли на себя труд сообщить ему о моих намерениях, а мне — его адрес?
Искренне Ваш…»
Ответ от 17 декабря начинался пуще прежнего: «Здравствуйте, уважаемый Юрий Колкер!», чем Ефимов и вбивал последний гвоздь в мои надежды. Он писал, что, слов нет, в Израиле всё гораздо дешевле, однако десятки авторов рвутся издавать свои книги именно в Эрмитаже — из-за активности рекламы издательства (шли факты, действительно, выразительные). Книги, изготовленные не Эрмитажем, издательство рекламировать не может (вопрос мой о наборе в Израиле был, конечно, бестактностью, если не прямой глупостью). Ефимов ставил мне последний срок: «Если до 1 февраля от Вас не будет ответа, это будет означать, что мы откладываем проект до лучших времён — так?» Дальше шел адрес Лосева.
Проект был отложен навсегда. Моя чувствительность (которую так уместно высмеял Усоскин) сослужила мне дурную службу. Уж кто родится идиотом, тот идиотом и помрет. Смешно подумать, как сам Ефимов потешился бы, скажи ему кто-нибудь. Но сказать было некому.
Не подлежит сомнению, что если б я не свалял дурака, не разыгрывал из себя кисейную барышню (и решился попросить у друзей в долг; им эти деньги были по силам, о чем я знал), вся моя дальнейшая литературная жизнь сложилась бы совершенно иначе… а может, и не только литературная.
Русская поэзия на Западе была представлена, во-первых, Бродским, во-вторых, Бобышевым: такое приходилось слышать в ленинградской полуподпольной литературе. Может, и не все так думали, но этой иерархии держалась, например, поэтесса Елена Пудовкина, к дарованию которой я относился с почтением. Для нее Бобышев был великий поэт. Пудовкина, человек религиозный, отличалась большой самостоятельностью. При наступлении свобод в России она не пожелала издавать свои стихи, а ведь кто только не кинулся издаваться. Когда я кочегарил на Адмиралтейской 6, Пудовкина сидела у котлов на Адмиралтейской 12. В ее котельной была удобная комната; там иногда собирались подпольные авторы, не одни кочегары. Сменял Пудовкину брат Дмитрия Бобышева, Костя, свободный художник. У меня сохранились его котельный натюрморт и посвященное мне стихотворение, в рукописи которого я не могу разобрать половины слов. С Дмитрием Бобышевым я знаком не был. Легенда называла его одним из ахматовских сирот, вместе с Бродским, Найманом и Рейном. Других сирот я тоже лично не знал.
Письмо Бобышеву я начал 10 августа 1984 года, в лучших традициях моей эпистолярной вежливости.
«Дорогой Дима,
с некоторым опозданием передаю Вам приветы от Вашего брата Кости и Лены Пудовкиной: и с ним, и с нею я виделся в июне, перед нашим отъездом; оба мне знакомы с 1980, когда мы все работали в соседних кочегарках на Адмиралтейской набережной. Вывезенная мною коллекция картин состоит из одной-единственной работы К. Бобышева, мне им подаренной. Мы, однако, не были с Костей очень близкими друзьями. Гораздо теснее мы сошлись с Леной, с которой нас связывала общность литературных судеб и интересов (а мою жену Таню — еще и духовная общность). Все эти годы Лена часто бывала у нас, мы же летом (в 1982-83) ездили к ней в деревню. Я хорошо знал Славу Долинина… В компании с ним (а также с Эдуардом Шнейдерманом и Светланой Вовиной) мы в 1982 составили антологию ленинградской неподцензурной поэзии за последнее тридцатилетие (в ней, конечно, есть и Вы), имевшую хождение в самиздате. О себе сообщаю [стандартный набор].
13.10.84
Продолжаю после долгого перерыва.
Ваши стихи я знаю с 1980. Чуть позже начал ходить по рукам машинописный сборник Зияния, кажется, копировавший типографское издание, и о Вас многие заговорили. Помню следующую забавную сцену в котельной у Лены, в 1980 или 1981; присутствовало несколько человек, кто-то вспомнил реплику С. Дедюлина о том, что после отъезда Бродского лучшим ленинградским поэтом стал С. Стратановский [Бобышев эмигрировал позже]; последний, бывший среди нас, едва мог скрыть, как лестно ему это определение, однако энергично возразил: нет, Бобышев. (Он же с восхищением отзывался о Вашей Ксении Кронштадтской — в том же месте, но в другое время. Как видите, вся культурная жизнь в Ленинграде протекает в котельных.) Воспроизвожу этот анекдот, чтобы показать, что талант Ваш признан, а имя и стихи хорошо известны любителям поэзии; надеюсь, что он Вас позабавит. Сам я читал Зияния, когда мы отбирали стихи для антологии, и пришел к убеждению, что Вы — один из лучших современных поэтов (Костя, в споре с приезжавшим в Ленинград Иваском, настаивал: лучший.) Детальное установление табели о рангах среди живущих и творящих не кажется мне обязательным. Кстати, решаюсь спросить, не найдется ли у Вас экземпляра Вашей книги? — здесь я ее не видел, да и не известно, когда еще я сделаюсь покупателем.
У нас всё еще много проблем, связанных с устройством — поэтому и письмо к Вам растянулось более чем на два месяца. Буду очень рад, если Вы найдете время ответить мне; напишите о себе и о вашей тамошней литературе. На этом прощаюсь. С искренним уважением…»
Верно: не стоит устраивать табель о рангах — но как велико было искушение устраивать ее! Эта потребность была хлебом обездоленных. В нашем сонме теней только самые самонадеянные твердо знали, что они — существуют; остальные сомневались. Конечно, каждый втайне и себе отводил место в этой табели — и можно почти не спрашивать, какое.
Упомянутая «духовная близость» Тани с Леной Пудовкиной — учтивая уступка, если не прямое приспособленчество: намек на то, что не весь я жид, не с головой ушел в еврейство, есть в нашей семье и православие, из которого некогда вышла и в которое вот как раз сейчас, опомнившись от большевистского помешательства, возвращается русская литература. В 1979 году, после своей страшной операции на позвоночнике, уступив натиску Ларисы Разумовской (первой жены Бориса Лихтенфельда), Таня крестилась. В момент самых страшных мучений в больнице Тане почудилось нечто, что Лариса истолковала как божественное видение и внушение. Продвинулась Таня по новой стезе недалеко. Оглядываясь, вижу, что ее христианство запечатлелось в моей памяти одним-единственным эпизодом: как она ставит свечку в церкви — во Флоренции в 1987 году, рядом с «домом Данте», — за то, чтоб поскорей могла вырваться из России ленинградская другая православная поэтесса, Елена Игнатова. В церкви мы оказались в ходе осмотра достопримечательностей; во всех других церквах оказывались только в связи с той же надобностью. С Ларисой, своей крестной, Таня не подружилась, после развода Лихтенфельда — не виделась.
Зачем потребовалось мне снимать шляпу? Зачем я вообще писал Бобышеву? В его стихи я, действительно, заглянул, нашел их крепкими, но чужеватыми, не увлекся — и положился на молву: пусть он пока будет хороший, даже замечательный, а там поглядим… Разве не каждому хотелось мне протянуть руку? Я страстно искал родства: родства не идеологического, а стилистического, языкового. Конечно, и в ту пору сионизм я предпочитал православию; иначе и в Израиль бы не поехал; но я верил: Бог отвечает не на вопрос что?, а на вопрос как?. В сущности, вся моя переписка (не только с Бобышевым) была поисками неузнанного брата — и разведкой, попыткой выяснить, на каком я свете. Не отказался бы я и от прямой поддержки, но не из всяких рук, и хотел знать, кто есть кто.
Бобышев ответил 28 октября 1984 года:
«Здравствуйте, Юра. С приездом!
Ваши публикации попадались мне на глаза, и поэтому Ваше имя ассоциируется у меня в памяти с чем-то хорошим. Но самих стихов не помню, извините. Было бы замечательно, если б Вы смогли прислать мне копии Ваших публикаций. Что же касается моих "Зияний", то они находятся у меня в 2-х неприкосновенных экземплярах, так что, если Вы действительно желаете их для чтения, я вынужден буду ксерокопировать их.
Как Вам на новом месте? В Вашу страну на паломничество собирается Ю. Иваск. Сообщите мне в следующем письме (если соблаговолите) Ваш телефон; я ему передам, а он позвонит Вам.
Забавно, что Вы написали о литер. жизни ленинградских котельных. Знаю, знаю! Всё еще ломают копья, кто первый поэт. Вспоминается Гёте, который писал по сходному поводу приблизительно следующее: "Немцы разделились на-двое, и дубасят друг друга, чтобы скорей решить, кто первый поэт: Шиллер или Гёте?, вместо того, чтобы порадоваться за Германию, которая дала разом двух таких молодцов".
Тут и Пастернак подоспел со своей песенкой на мотив "Разлуки":
|
"В подвалах и котельных не спят истопники". |
Да и я оказался не чужд котельным, и их воспел.
|
"До чего же она неказистая, дверь в котельню, и та же стена, но так жарко, так, Господи, истово, и сиротски так освещена…" |
Моя лит. жизнь в Америке не очень-то складывается. Издательства и периодика (русскоязычные) очень анти-русские, и дважды анти-православные. Так что я более в контакте с Европой. Но всё еще не найду издателя для новой книги стихов. Однако, пишу, несмотря на работу в электронной компании "от- и до", вечернее преподавание в местном университете, учёбу там же, а также и "управдомство" в доме, где я живу с семьёй.
Надеюсь, что и я в недалёком будущем окажусь паломником на Святой Земле.
Ну, не пропадайте!
Ваш Дмитрий Бобышев»
Антирусские настроения в русской печати! Засилье евреев, иначе говоря. Такого я всё-таки не ожидал, а возразить не мог: не знал, как на самом деле… Может и сам-то я — часть этого засилья? За словами Бобышева почудилась мне мысль, которую я вовсе ему не приписываю, но которая в принципе могла брезжить у него или других: славу Бродского сделали евреи, а вот православный мир не видит своего козыря, другого большого поэта, являющегося в некотором роде ответом на Бродского, вызванным из самых недр нашей литературы.
Под Европой Бобышев понимал Париж. Зияния — так называлась его первая книга стихов, этакий кирпич в триста с лишним страниц большого формата, который, по моей философии, будь он хоть гениален, должен был разом оттолкнуть от Бобышева любого читателя — именно своим объемом… Потом я слышал, что Бобышев своей рукой исправлял опечатки в каждом из трех тысяч экземпляров книги. Что ж, и я поступил бы так же; стихи ведь прямиком в вечность отправляются. Но три тысячи экземпляров!
Неузнанного брата не нашлось. Эпистолярный стиль Бобышева вызвал у меня полное уныние, куда большее, чем его настроения, но я всё-таки ответил ему 20 ноября 1984 года:
«Дорогой Дима, спасибо за быстрый и дружеский ответ. Что Вы не запомнили моих стихов — более чем естественно. Я бы удивился другому. Посылаю по Вашей просьбе мою подборку из Русской мысли: более поздних стихов нет под рукой. Ваши стихи о котельне помню (а Пастернака — забыл). Мне было бы интересно встретиться с Иваском; если это и ему интересно, просите его позвонить [телефон конторы нашего общежития, с пояснением, что меня не позовут]. Жаль, что у вас нет лишнего экземпляра Зияний: я хотел писать о Вас [чтобы понять; не написав, не поймешь]; ксерокопировать же и слать копию через океан вряд ли стоит, со временем я это сделаю и здесь. Но — едва ли скоро: это — к Вашему вопросу о том, как нам на новом месте, — трудно. Иврит не дается, здоровье (особенно у жены) подорвано, с работой пока ничего не слышно. Литературные дела мои движутся не так, как хотелось бы; я нервничаю; неясно, чем завтра будем кормиться. Журналы не отвечают. З. А. Шаховская, мой давний корреспондент, тоже меня не обнадежила. У Ефимова и в Ардисе лежат макеты одной из четырех книг моих стихов. За тонкую книжку в примерно 120 страниц Ефимов просит $1,500. Никого не удается заинтересовать изданием Островов — ленинградской антологии, о которой я Вам писал. Не поможет ли Бродский? — но у меня нет его адреса, не говоря о рекомендателе. Таков неполный перечень моих текущих проблем. Я был бы очень рад, если бы Вы попросили Ефимова снять и выслать Вам копию моей книги — может быть, он не откажет. Если же это почему-либо невозможно, или Вам не до того — не беда, при случае прочтёте; не думаю, чтобы мои стихи Вам очень понравились; я консерватор, реакционер. Нет ли у Вас адреса Алексея Лосева? — я собираюсь публиковать большую статью о его отце. На этом прощаюсь. Чувствую, что Вам сейчас не до писем — и не связываю Вас просьбой о немедленном ответе. Ваш…»
Рекомендателей к Бродскому у меня был целый список, начиная с Кушнера, но сам я обратиться к знаменитости не хотел даже в связи с антологией, не говоря уже о моих стихах; мешала гордость, в случае с Бобышевым и другими почему-то молчавшая. Иное дело, если б до Бродского дошел слух об антологии, и он бы сам пожелал взглянуть на нее и (или) помочь с ее изданием. Одновременно производилась проба грунта. Я слышал о размолвке Бродского с Бобышевым и хотел выяснить, как далеко она простирается; одно дело — личные счеты, а другое — алтарь отечества, русская литература.
Бобышев ответил — открыткой (с изображением Воронетского православного монастыря в Румынии) от 16 декабря 1984 года, укрепившей мое уныние на его счет:
«Здравствуйте, Юрий, котельный юноша! Спасибо за стихи и письмо. Моё первое хорошее впечатление подтвердилось при перечтении. Младое, но отнюдь не чужое, а наоборот — знакомое. Здравствуй, племя! — как сказал бы однорукий Гейченко.
Иваску непременно напишите, он будет рад. Напишите как можно теплей, по-котельному. Вот его адрес (хоть он и Юрий Павлович), но:
|
Prof. George Ivask 263 Sunset Ave AMHERST, Mass. 01002, USA |
(Да, ни в коем случае не пишите по обще-советской привычке "уважаемый", но: либо "дорогой", либо "многоуважаемый", а то и "глубоко-уваж…")
Напоминаю Вам цитату из "Лётчика" Пастернака:
|
В пространствах беспредельных горят материки, в подвалах и котельных не спят истопники. |
Литературные дела повсюду дрянь, не удивляйтесь. Русские стихи почему-то плохо продаются в Америке, а японские автомобили — хорошо. Так что не сетуйте на Ефимова. Он берёт, но зато какое-то маленькое имя на книжном рынке у него есть. Верней, на славянском базаре, — и я там буду сам через неделю (Вашингтон, Конгресс славистов), так что надеюсь с ним поговорить и разузнать о Вас. А Шах-княгиня Зин. Алексеевна ничего сейчас не решает, кроме вполне условной премии им. Даля для прозаиков.
А как там у вас журнал "22" поживает, и не предлагали ли Вы "Острова" — Нине Воронель пустить из номера в номер, серией? Это, по-моему, идея!
Адресов ни Бродского, ни Лосева сообщить не могу, т.к. не знаю. Но, если Вы найдете их иным путем, и будете писать, не упоминайте меня, иначе это Вам повредит. А в случае с Иваском — наоборот, поможет.
Это всё — к слову об известной статье небезызвестного автора "О партийности в литературе".
Держитесь; оклемаетесь — будет лучше. Всех благ.
Ваш Д.Б.»
Занятно! Дважды (второй раз — не без некоторого усилия над собою) я обращался к Бобышеву «дорогой», что казалось мне нормальной внутрицеховой вежливостью, в ответ получал похлопыванье по плечу — и он же меня учил, как обратиться к Иваску! Особенно умиляла рекомендация написать глубокоуважаемый. Мне как раз это словечко всегда казалось типичной советской пошлостью. Мысль и слог поэта вообще не воодушевляли. Разговора не получалось. С чувством юмора у Бобышева тоже чувствовалось неблагополучие. Ей-богу, зря он мне напоминал цитату из Пастернака. В нашем кругу как раз эти два стиха бытовали с поправкой: «В подвалах и котельных / Не спят отказники…».
Идея насчет Островов сейчас не кажется мне вовсе неправильной, тогда же я ее решительно не принял. Но отчего Бобышев думает, что Двадцать два — это Нина Воронель?!
Дважды, в обоих письмах Бобышева, я с раздражением отметил неслучайную странность: строку Пастернака он начинает со строчной буквы. Видно, он думал, что теперь и вообще так писать положено; ведь все же пишут; ну, и классика не грех поправить. Для меня, однако, тут был момент принципиальный. В 1971 году, осознав себя консерватором, я вдруг увидел в начальной строчной пошлость и уродство: поклон в сторону дыр-бул-щила, поворот спиной к Пушкину. С этим — и остаток жизни прожил. По сей день начальная строчная в стихах сразу подрывает у меня доверие к автору. Но Бобышев был неодинок; другие тоже думали, что строчная вытеснила прописную. Хорошо помню, что мои самые первые стихи в ленинградском журнале Нева были в 1972 году напечатаны вот с этой хамской поправкой, а в ответ на мое негодование старик Всеволод Рождественский, ученик Гумилева, сказал что-то в этом же роде: мол, так теперь принято.
Иваску я писать не стал: понял, что тут больше ладана, чем я могу вынести. С Бобышевым я больше не переписывался; познакомился с ним лично — только в 1999 году, в Петербурге, на конгрессе поэтов. К этому времени отношение к нему было уже иное.
Лишь одному человеку я безоговорочно прощал весь мыслимый ладан: Зинаиде Алексеевне Шаховской. Тут было нечто личное: ее письма ко мне в котельный Ленинград стали для меня событием. Я словно в машину времени попал. Последний представитель старой России, настоящей, не испохабленной большевиками (да еще, предположительно, родом из Рюриковичей), протягивал мне руку. Окружавшая меня реальность преобразилась, фактура времени стала плотнее… так мне чудилось… Шаховская участвовала во французском Сопротивлении; за одно это — чего не простишь? И кого же только она не знала лично, не встречала в своей долгой жизни! Среди прочих — Ходасевича. Именно в связи с ним я написал Шаховской в 1982 году из ленинградских кочегарок — в полной уверенности, что либо письмо не дойдет, либо она не ответит, либо ответ не дойдет.
Конечно, ни на минуту я не верил в нее как в писателя. Две ее книжки, полученные в Ленинграде на прочтение от старика-архитектора Михаила Азарьевича Краминского, были замечательны честными (и потому драгоценными) наблюдениями над людьми, не мыслью и слогом. Эти наблюдения и есть вклад Шаховской в литературу. Место свое в литературе она преувеличивала (как решительно все пишущие), но всё же считала скромным. В предисловии к своей краткой неопубликованной (рукопись у меня) автобиографии она пишет о себе в третьем лице:
«Зинаида Шаховская определяет свое место среди авторов современия [sic] главным образом как объективный свидетель событий и знаменитых и малознаменитых их участников. Зинаида Шаховская будет признательна тем, кто примет во внимание это замечание, когда будет упоминать о ее деятельности и работах…»
Драгоценны еще и ее слова об Ахматовой в очерке о Георгии Адамовиче:
«Говорил Г.В. очень хорошо, без всяких шпаргалок и умно. В частности, на вечере, посвященном памяти Анны Ахматовой, я очень оценила, прямо сказать, его мужество, когда он, говоря о поэте, который ему был дорог, посмел восстать против презрения Анны Ахматовой к эмиграции. Мы здесь никогда не упрекали ее за стихи Сталину — она нас упрекала за то, что мы избежали необходимости поклонения тирану. Да и для многих из нас упрек, что в последней войне мы находились "под защитой чуждых крыл", был необоснован. Кое-кто из нас по мере сил был в числе "чуждых крыл", охраняющих других, и из горящих городов мы никуда не эвакуировались. Сказать об этом было надо, но трудно. Это сделал Георгий Адамович…»
Адамович — сказал; Шаховская — сумела услышать, пережить и донести до нас. «Чуждые крыла» в стихотворении 1961 года она истолковала излишне буквально, но это дела не меняет. Можно было бы написать и резче: по временам патриотизм Ахматовой — просто квасной. Впрямь, что ли, считать Россией не людей, в ней живущих, не большевиков с их ГУЛАГом, а сосну над озером тихим, которую предали эмигранты?
«Мы разницу этническую не делаем — когда дело касается русской культуры — хочу Вас в этом уверить», писала мне Шаховская из Парижа в кочегарки 20 июля 1982 года. (Это и некоторые другие ее письма я после ее смерти напечатал в №2 лондонского Колокола.) Человек, не дышавший тогдашним воздухом в проклятом Ленинграде, не поймет, что эти слова могли значить. Не кремлевский антисемитизм выгнал меня из России и из русских. Антисемитизм «литературы нравственного сопротивления» был куда страшнее. Оттуда шла мерзость утонченная; с этими людьми я не хотел находиться под одним небом; с Шаховской — готов был умереть за небесную Россию… Верил почему-то, что в главном мы с Зинаидой Алексеевной сойдемся.
Спору нет, я идеализировал ее: Шаховскую, а с нею — и старую Россию; обманывал себя — и догадывался, что обманываю; не хотел додумывать до конца некоторые вещи; хотел, иначе говоря, еще пожить — потому что нельзя было мне тогда жить без русской литературы и, тем самым, без какой-то, хоть выдуманной, России… А между тем Дедюлин не зря обращал мое внимание на статьи Шаховской в Вестнике РХД.
В 1924 году, в Берлине, вышел сборник Россия и евреи, в котором авторы, среди прочего, не без сожаления отмечали еврейское участие в развале императорской России. В мае 1984 года, в Вестнике РХД №141, в статье Евреи и Россия, Шаховская сетует, что времена переменились: тогда евреи любили обидевшую их страну, теперь же новые израильтяне, выехавшие из СССР, не столько большевизм поносят, сколько Россию и русских. Следуют примеры, несуразные и даже прямо глупые, к делу не относящиеся, обвинения не подтверждающие. Антисемитизм в СССР Шаховская объясняет нелюбовью коренных русских к революции и к компартии (где евреев много) — не буквально так, но, в сущности, именно так; то есть опять получается, что малый народ навязал свою волю большому. Как хорошо, говорит она, жилось в старой России евреям, вошедшим интегральной частью в русскую культурную жизнь (отказавшимся от своей культурной жизни); как хорошо было бы продолжать двигаться в этом направлении… Словом, Россия готова раскрыть объятья инородцам, если они постараются стать русскими. Смешнее всего, что и это — неправда, но пусть бы и так: отчего же, скажем, армянам становиться русскими, когда они втрое древнее и вдвое дольше исповедуют христианство? Оттого ли, что русские прихватили часть их территории с частью населения — или, может, оттого, что быть русским — лучше, почетнее? Шаховская подразумевает второе как самоочевидное, — и держит в уме, что вся правда с христианами, а иудаизм — суеверие. Как и Бобышев, она думает, что и зарубежная русская печать принадлежит евреям, так что русскому человеку самую правду вымолвить опасно: обвинят в антисемитизме… Слог в этой статье отвечает полету мысли автора.
Ничего этого ни знать, ни читать я не хотел. В отличие от Шаховской (она была умопомрачительно необразованна), помнил, чтó писали русские властители дум о евреях в XIX веке, среди прочих — Некрасов и Достоевский. Природу советского антисемитизма я знал не понаслышке. Наконец, и гордость во мне была задета основательно… и при всём том убогий идеал писательницы не только не претил моему чувству, а почти совпадал с ним. Что же тут удивительного? Я был русским евреем, русским-и-евреем; одинаково не хотел поступиться ни той, ни другой из своих половин; отдавал предпочтение еврейской только из-за антисемитизма. Не раз и не два возвращался я мыслью к счастливой и такой соблазнительной, такой упоительной находке Жаботинского: отвернуться без гнева, забыть Россию; я и отвернулся от земли и людей, но было нечто, от чего я отвернуться не мог: русская просодия, стихия русского языка. Это был не хлеб; это был воздух.
В Шаховской мне чудился человек неумный, но прекрасный… 30 августа 1984 года я писал ей в Париж, на улицу Фарадея 16:
«Дорогая Зинаида Алексеевна,
два месяца назад нам посчастливилось вырваться из коммунистического рая. Состояние шока и ощущение чуда не прошли у меня по сей день, поэтому я и не написал Вам сразу — но еще и потому, что наша с Вами переписка, так много для меня значившая, оборвалась, и я не знал (и до сих пор не знаю), не стала ли она Вам в тягость. Пишу в надежде, что мнительность моя напрасна. Моё же отношение к Вам прежнее: его ингредиенты — благодарность и восхищение. Надеюсь так же, что это письмо застанет Вас в бодрости и здоровье, — и решаюсь просить у Вас совета, даже — советов. Литература была и остается главным содержанием моей жизни, а в ней главным являются стихи. Сейчас, оказавшись в новых условиях, я нуждаюсь в некотором напутствии, и не вижу лучшего руководителя, чем Вы. С какими журналами Вы посоветуете мне сотрудничать? Не рекомендуете ли меня кому-либо из редакторов и издателей? Что Вы думаете о возможности (или невозможности) издания отдельной книжки моих стихов? — Еще в Ленинграде я прочел Вашу статью на выход первого тома моего Ходасевича — от всей души благодарю Вас за внимание к моей работе и добрые слова в мой адрес. Хочется думать, что дальнейшее знакомство с книгой не слишком Вас разочаровало. Были, кажется, и другие отклики в прессе — ни одного из них мне прочесть не удалось. Уже здесь я услышал, что издательство Аллоя прекратилось — правда ли это? Мне решительно некому, кроме Вас, задать эти вопросы. Жду Вашего ответа с нетерпением. Желаю Вам всех мыслимых благ.
Преданный Вам…»
Письмо не совсем льстит мне тогдашнему, но истина вообще нелицеприятна, и деваться некуда: так было. Мне чудилось, что в лице Шаховской я говорил с Россией Пушкина, оттого я и хватил через край по части эпистолярной вежливости. Интересно было бы поставить общий вопрос о том, в какой мере человеческая гордость и чувство собственного достоинства определяются внешними обстоятельствами, включая денежные; измерить расстояние от Герцена до Башмачкина…
Шаховская ответила 7 октября:
Милый Юрий,
Рада за Вас, что Вы выбрались из Союза — и вышли на волю. Впрочем и воля не без проблем. Моя проблема — мой возраст, и роль советника и руководителя мне уже не по силам. К тому же, я живу уже в чужом мне мире, которым правит племя молодое, мне незнакомое. Я пишу мало — и только в ящик, хотя иногда "отругиваюсь" — это вроде спорта, хотя и обещаю себе что это "в последний раз". У меня болят глаза и руки т. ч. переписка моя с моими даже старыми друзьями обрывается. Вам всё же сегодня отвечаю. Добыла адрес Аллоя. Аллоя я видела раза 4 — и общего с ним ничего не имею. По слухам он начал свое собственное дело — издательство. Мне не хочется Вас разочаровывать — но книги на рус. языке издаются гл. образом политические — поскольку ваша эмиграция состоит в своем большинстве из интеллигентов, то желающих печататься чрезвычайно много, а возможностей мало. Стихи и в 20х-30х г. печатались на деньги самих поэтов — тоненькие сборнички в 100-200 экз., а поэты многие — работали малярами, телефонистами, шоферами… Когда я была редактором Р.М. я выпустила кажется 2-3 книги по полученным из Союза рукописям и когда авторы их оказывались на Западе — хоть книги их и не покрыли расходы по печати я все же что-то уплатила авторам …[три слова неразборчиво]… Говорят, я знаю, что Аллой продавал издан. им книги в разные университеты и т.д. Он мне не сказал, откуда он получил вашу — просто спросил, что я о ней думаю. Вероятно, в Израиле есть люди, которые Вам могут дать совет. Как профес. писатель могу сказать что гонорар всегда корректно просить, что так же корректно для издателя платить автору, тем более если книга издана без авторского на то согласия. В Израиле живет хорошая поэтесса Лия Владимирова, адрес ее Вы легко узнаете. В Иерусалимском университете среди "русистов" Вы вероятно сами найдете кого-нибудь, кто захочет Вам помочь советом. Я встречала тут напр. невероятно ученого профессора А. Флейшмана — ему если увидите передайте мой привет. Адрес Аллоя
|
Monsieur V. Alloy 17, rue des Immeubles Industriels, 75011 Paris France |
Простите, что не очень ободрительно мое письмо. Я смолоду жила без иллюзий, но не без надежды. Вопреки логике, бывают и удачи. Желаю Вам радости и удачи, здоровья всей Вашей семье. ЗШ
Послать стихи можно Якову Моисеевичу Andre Sedych в Новое Рус. Слово в Нью-Йорк или Глезеру в "Стрелец" (адреса у меня нет), в "Время и мы" не ссылайтесь на меня в последнем случае — меня "Время и мы" ругательски ругает.
Я дважды виделся с Зинаидой Алексеевной: в январе 1986 года и 4 сентября 1997 года, оба раза на рю-Фарадэ. В мой последний визит одиночество ее было полное. Помогала ей приходящая русская девочка по имени Ваня — да-да, так приходилось ее звать, поскольку по метрике девочка, родом из Сибири, была Иоанна. Зинаиде Алексеевне шел 91-й год, здоровье у нее было скверное, характер — нелегкий. Приехал я, в сущности, прощаться; никакого дела у меня не было; я знал, что больше не увижу ее.
О том, в каком страшном вакууме оказалось Шаховская к началу нового века, косвенно свидетельствует поразительный факт: мне, человеку, которого она видела второй раз в жизни, да к тому же атеисту, она предложила взять на себя управление ее литературным наследием. Естественно, я с благодарностью отказался (сославшись на незнание французского языка), но всё-таки вынужден был взять какие-то книги и рукописи. Родилась Шаховская 30 августа 1906, умерла 8 июня 2001 года в доме престарелых в Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем. Кажется, пыталась покончить с собою — при ее-то религиозности: можно себе представить, как она страдала.
Одну мысль (не новую, но что на свете ново?), вынесенную мною из письма Зинаиды Алексеевны от 13 декабря 1982 года, я пронес через всю жизнь: старость требует от нас гораздо большего мужества, чем военные подвиги…
Бумажный человек, я запоминал отчетливее тех, кто писал, чем тех, кто повелевал. Аля Федосеева была из вторых. Она вела какую-то передачу на волнах радиостанции Свобода в Мюнхене. Какую передачу? Бог весть. Почему повелевала? Потому что сидела при деньгах, могла выбрать, у кого взять материал и, значит, кому заплатить. Повелевала через деньги, да сверх того еще и на честолюбии людском играла, потому что для иных было важно: вещать на волнах… На рубеже веков я познакомился с одной парижанкой, которая ни за что на свете «не хотела уходить из эфира», цеплялась за любую возможность попасть на радио. Смех и грех.
Самое Алю, ее облика — не помню совершенно; покажите мне хоть тогдашнюю — не узнаю. Дозвонилась она мне через контору центра абсорбции (то есть в два приема: сперва записку оставила, чтоб я ждал звонка) в первые три недели после нашего водворения. Во время первого разговора, еще предварительного, сказала:
— Звучите вы прекрасно.
Этого я, понятно, никак не мог забыть — потому что впервые в жизни меня оценивали с точки зрения моего голоса. Оценку, уж не знаю зачем, Аля произнесла завышенную; может, хотела польстить мне. Потом я многократно имел случай увериться, что голос у меня никудышный; до этого — не сознавал своей беды.
Там, в этом мисраде, в конторе при пещерах, среди поселенцев, галдевших шумною толпою, я и давал Але первые интервью для Свободы. Когда появились знакомые с квартирами, Аля звонила мне в эти квартиры в условленное время; когда в 1985 году я получил место в университете, звонила в университет. Сам я мог звонить ей по коллекту, то есть с оплатой разговора той стороной, — и, вероятно, звонил, несмотря мою нелюбовь к телефону… кстати, не в ту ли пору возникшую?
Мне следовало бы помнить Алю отчетливее. Через нее мне в руки попали первые деньги, заработанные после выезда: на свободе, на Свободе. Мне в голову не шло поинтересоваться, откуда у нее мои координаты; «все вокруг» говорили обо мне — ну, и Аля в Мюнхене прослышала и нашла меня. Сейчас думаю: через Усоскина или Мишу Хейфица. Любой возможностью заработка я, конечно, дорожил, но деньги за ветер в поле не шли для меня ни в какое сравнение с копейкой за публикацию на бумаге. Даже безгонорарные публикации значили больше «эфира». Сиюминутное презиралось. «Прошлое жадно глядится в грядущее. Нет настоящего, жалкого — нет…» (Да-да, знаю: у классика не «жадно», а «страстно», но — не могу удержаться и не поправить; ей-богу, «жадно» — лучше… Десятилетиями, между прочим, твержу с этой поправкой — и меня никто не поправил…)
Потом Аля появилась в Израиле, в сопровождении оператора Ариадны Николаевой; на Свободе, под неусырным надзором профсоюза, царило жесткое разделение обязанностей; ведущий — звуком не занимался. Ариадна, сколько помню, была из второй эмиграции, потомственная немка; и я спрашивал себя: отчего не она повелевает, а эмигрантка недавняя? Язык хуже? Советской действительности не чувствует… или в этом деле напор важен? Приезжала Аля в Израиль собирать материал для своих передач, а вместе с тем — и мать навестить в доме престарелых. Оказалось, что по паспорту Аля — Рахиль. Бывает же такое!
О Свободе рассказывали дурное. Говорили, что там грызутся; доходит до рукоприкладства; люди предметами друг в друга швыряются… чуть ли не пишущими машинками. Объяснялось это просто: деньги платили работникам какие-то невообразимые; о таких зарплатах в Израиле и слуху не было. Мало того, сидя в Мюнхене, ногой не ступив на землю Нового Света, люди получали спустя какое-то время американское гражданство. И это не всё: им жилье оплачивали, у них по рукой были какие-то наполовину бесконтрольные деньги — на то, чтоб гостей в рестораны водить… Ну, и держались люди за места мертвой хваткой, рвали своих братьев и сестер зубами.
Ссоры и драки случались там и по национальному признаку, между представителями языковых служб. Вообразите: врывается на русскую службу здоровенное лицо кавказской национальности, хватает за грудки первого попавшегося человека, рвет на нем рубаху и рычит:
— Скажи, где ты видел робкого грузина?
Оказывается, на русских волнах процитировали стихи классика: «Бежали робкие грузины».
Неудивительно, что взращенная в таких суровых условиях Аля была женщиной холодной и властной. Поначалу мы оба были друг в друге заинтересованы. Мне нужно было спасать оставшихся в Ленинграде, выговорить, что я знаю о преследованиях Мартынова, Зеличонка, Володи Лифшица, Сени Боровинского; ей — нужен был мой голос под мои материалы. Характерно, что я в начале предлагал ей писать для Свободы; мне так было удобнее, ей — этого не хватало, нужна была моя картавинка… Шли месяцы; я сделал, что мог для оставшихся, и стал забывать о Свободе и об Але. Однажды, после долгого перерыва, случилось нечто, о чем мне нужно было провещать миру. Звоню по старому телефону; попадаю на Алю, а она мне говорит:
— Вы отстали от жизни. Этой передачи уже нет.
Я осекся: почувствовал, что обидел ее. Должно быть, она думала, что я слушаю голоса. Этого не было и в помине — ни в Ленинграде, ни в Израиле, ни в Британии. Себя самого — никогда не слушал, а если слышал случайно, огорчался. Голос, действительно, был плох… да и радио я с детства не любил, никогда в жизни своею рукой не включил.
Была передача — и сплыла. Ну, не ветер ли в поле эти пустынные волны? Мне казалось, что если не сама Аля, то уж передача-то — дело надежное, долговременное… Но до этого телефонного разговора мы еще раз встретились с Алей в Мюнхене в декабре 1985 года — и даже работали неделю вместе, в одной комнате.
Куда реальнее, чем Аля, был для меня другой человек со Свободы, носитель столь характерного «у нас-евреев» водевильного имени: Габриэль Гаврилович (Гарик) Суперфин. Несмотря на имя (что тоже характерно у евреев) человек он был серьезный, даже (третий нередкий, если не вовсе характерный момент) уникальный: это был архивист номер один во всей русской ойкумене. Про него рассказывали легенды. Например, такую: он сперва вычислил, а затем нашел, физически отыскал в архиве, неизвестное до той поры письмо Гоголя, — это во второй-то половине XX века! Узнаешь такое и понимаешь: в жизни всегда есть место подвигу. Это был математик архивной науки, шахматист рукописей. Эрудицией обладал ошеломляющей. Сам я с 1981 года лелеял затаенную мечту: стать в эмиграции архивистом, разбирать старые рукописи за сколь угодно мизерное вознаграждение. Мне грезился пир воображения, живое общение с дорогими тенями, однако ж, чего греха таить, не в качестве архивных шахмат, не ради умственной игры, а в качестве подпитки мечтам другого рода: моему сочинительству. Тянуло меня в архив Колумбийского университета; по этой сокровищнице я вздыхал не менее двадцати лет… А Суперфин не вздыхал, просто взял и сделался профессионалом высочайшего класса. На Свободе он работал именно в тамошнем архиве, воздух зря не сотрясал.
Упомяну и еще одну легенду, связанную с Суперфином: говорили, что именно он снабжал Солженицына в России всеми необходимыми тому материалами. За это и сел, получил пять плюс два в 1974 году. За это — или за Хронику текущих событий, где был одним из редакторов. Это — уже не легенда, а факт.
Впервые имя Суперфина я услышал от Мартынова в 1983 году, когда Суперфину дали разрешение на выезд. Произносил Мартынов это имя уважительно (еще бы!), но больше ничего из его путаной речи не извлекалось: мой собеседник физически не умел говорить прямо, о чем бы ни шла речь; всегда ходил кругами вокруг любого предмета разговора. Однако ж я всё-таки понял с его слов, что при своих феноменальных знаниях Суперфин ничего не публикует — потому что не любит или не умеет писать.
Один-единственный раз виделся я с Суперфином: в Париже, в январе 1986 года. Понравился он мне чрезвычайно. Вот, мелькнуло у меня, с кем бы я хотел дружить… и работать. Но еще в 1984 году мы каким-то образом вступили в переписку. Каким? Непостижимым образом копия моего первого письма к архивисту отсутствует в моем аккуратном архиве — не ирония ли тут судьбы? — зато сохранились два его письма, дополняющие мой автопортрет.
Девятого ноября 1984 года, вероятно, после одного или двух телефонных разговров, Суперфин писал мне:
«Дорогой Юра!
Сегодня мне передали В/письмо.
Посылаем №1 "ЛЕА" в том виде, в к-м он выпущен.
№№2-3, надеюсь, скоро будут в работе. В №3 много трудночитаемых мест и у нас. М.б., получим получше копию. Если Вы точно можете написать, какие страницы (или мат-лы) №3-го у Вас нечитабельны, то в этом случае мы сможем помочь (заметьте, я тут везде пишу "мы", поскольку — это не моё, а собственность отдела и распоряжаться док-тами в полном их объеме я не в силах, но, думаю, что всё равно и без высылки нашего экз-ра (а в этом случае Вы получили бы копию с копии, что в свою очередь привнесет новые дефекты) целиком, Вы сможете получить необход. страницы, только напишите какие.
Конечно от получ. "Островов" мы бы не отказались. У нас его нет. Что до издания его — то следует посмотреть его. Лично я всегда за "лит. мат-лы", но я не один.
Кстати, знаете ли, что наши "Материалы" не имеют копирайтов и т.д.? Не всех самиздат. авторов устраивает наша юридич. "форма" воспроизведения, многие хотели бы иметь "авторск. права"… Но наши "Материалы" зато — не помеха другим печатать и переопубликовывать не только сами тексты, но и "плоды" нашей эдиционной работы.
О Мартынове очень грустно. Я думал, что он сумеет договориться с властями. По ч. 2-ой это получить можно до пяти лет; а Вы в курсе, что именно ему вменяют?
Это мое первое письмо к Вам.
Ваш Гарик Суперфин…»
Выходит, в ноябре я уже приступил к подготовке ЛЕА для издания иерусалимским университетом.
Второе письмо Суперфина — от 26 ноября 1984 года:
«Дорогой Юра!
как мне сказало непосредственное начальство, никаких гарантий издания "Островов" оно дать не может, пока этот сборник не будет здесь рассмотрен. И, право, было бы очень безответственно обещать и не сделать. Лучше так, как сказано. Будь сборник здесь и будь по-настоящему неграфоманский, я готов со своей стороны приложить старания, чтобы это печаталось. Если Вы можете это рассмотреть как нашу "заинтересованность", то ждем присылки "Островов".
Ваш Габриэль [зачеркнуто] Гарик Суперфин…»
Не мог я послать на Свободу антологию; физически не мог. Отпечатать 400 страниц с фотопленки — стоило больше, чем мы получали в месяц на еду, а в Израиле русская литература без сионизма твердо расценивалась как авода-зара (чужое дело). Министерство иностранных дел (его русский департамент) и без того оказало мне услугу из ряда вон выходящую: отпечатало, тоже с пленки, отснятой Сеней Фрумкиным, мой личный стихотворный архив, без которого я чувствовал себя так, словно у меня дом сгорел… Не мог я послать Острова — и не смог. Но ведь, правду сказать, печать сборника в Материалах Свободы, то есть даже без переплета, не казалась мне публикацией.
В январе 1986 года мы случайно встретились в Суперфином в Париже. Аллой повел нас в ресторан, а после ресторана отвез к Шаховской. Там Гарик и я провели около часа в разговорах (у него были деловые вопросы, у меня — почтительная благодарность), после чего на прощание Шаховская попросила нас написать несколько слов в ее альбом. Я исписал целую страницу. Гарик взял в руки альбом, подержал его в нерешительности — и приписал внизу что-то вроде: «и присоединившийся к тому». Когда мы вышли, он с некоторым изумлением спросил меня: как это вы можете?! То есть: как я могу вот так на месте писать, да еще так много. Я в ответ сказал что-то вроде: были бы чувства, а слова придут, и тут же одернул себя, подумал, что Гарик с его неожиданной трудностью может в этом заподозрить надменность. В метро я сфотографировал его на прощанье.
Культурный обмен в пещерах абсорбции стоял коромыслом. Дверь в нашу пещеру №88/30 не закрывалась — не в переносном, а в буквальном смысле слова; и не только в нашу. Жить было трудно, но интересно. Каждый день приносил новости. Лица мелькали, как в калейдоскопе. В ту пору я впервые отметил с грустью, что память изменяет мне: не всякий уже раз мог я связать знакомое лицо с именем человека…
Володя Магарик, математик, работавший программистом («начальство удивляется тому, что я могу написать сто операторов фортрана в день!»), забежал как-то со стихами, полученными из Москвы: Тимур Кибиров. Магарик знал, что я связан с русской печатью; адресом не ошибся. Имя Кибирова я прежде только слышал; стихи мне не очень понравились (не отвечали моей эстетике), но дело свое я сделал: тотчас отослал их в Континент, где они и были напечатаны.
Я в ту пору носился с другим поэтом из тех же московских кругов: с Бахытом Кинжеевым. Носился в том смысле, что верил в его талант, любил его стихи — и решительно не видел (да так и не увидел), чем он хуже Бродского, чье имя у всех на устах. Кинжеев уехал годом или двумя раньше меня, жил в Канаде. Знаком я с ним не был, виделся один раз в Ленинграде в общей компании (где Кинжеев читал); он приятельствовал с моими приятелями-поэтами: Владимиром Хананом и Виталием Дмитриевым, они же составляли общий круг с москвичами Сергеем Гандлевским и Александром Сопровским, в котором и Кинжеев был своим. Знакомства я не искал, потому что собирался писать хвалебную критику на его стихи — и боялся испортить дело перепиской, охладеть к замыслу. Вообще из всех москвичей, которых дал самиздат, я выделял двух поэтов: Кинжеева и Кублановского. В том и в другом случае доверие у меня явилось мгновенно — в форме изумления, в форме классического вопроса, который задает себе Георгий Иванов над первыми стихами Мандельштама: «отчего я этого не написал? ведь — это истина, существовавшая до моего рождения!» Решительно про каждого поэта я мог сказать, откуда он черпает, а про этих двух — затруднялся.
В сознании многих, кто не слишком интересуется стихами, два носителя татарских фамилий — Кинжеев и Кибиров — путаются: то меняются местами, а то и совмещаются, сливаются. В одной из пещер абсорбции жила Дина Зисерман, москвичка, приехавшая позже нас, моложе меня лет на десять. В самые первые недели в Израиле, когда Дина еще не вырвалась из СССР, я видел в Русской мысли ее статью в защиту мужа, Володи Бродского, врача, угодившего в заключение за сионизм и еврейскую активность. Дина была необычайно хороша… или мне казалось таковой… Я непременно влюбился бы, не положи я себе жесточайшего зарока: не влюбляться вообще, не давать воли этого рода воображению. Романтическое приключение, любое, представлялось мне пошлостью и предательством, не отвечавшим жалкой и вместе с тем суровой, нищенской, трудовой фактуре нашей жизни — что в Ленинграде, что в Израиле. Берем пушкинскую эпоху, великосветское общество с его роскошью и блеском: там, средь шумного бала, влюбленность и адюльтер пошлостью не казались — хотя бы уже потому, что были сопряжены с риском для жизни. А тут, в нашем кривом зеркале, — «быть чувства мелкого рабом», да еще без малейшего шанса на успех? Потакать большому чувству? Опасность, между тем, была нешуточная: мне в Дине нравилось всё, даже то, что не нравилось ни в ком.
Вижу ее как сейчас — на улице Алкалая, в Центре информации о положении советского еврейства: она и несколько других молодых женщин разбирают ящик с одеждой, присланной для новых репатриантов из Америки — в соседней комнате, за открытой дверью. Я, в другой комнате, о чем-то увлеченно говорю с Шиповым, в ту сторону стараюсь не смотреть. Вдруг наш разговор прерывает Дина, словно из-под земли выросшая, с розовой шерстяной детской кофточкой в руках:
— Это — для Лизы.
Характером Дина была резковата, очень самостоятельна, спокойна и неулыбчива, в общении — немногословна. О цвете глаз не спрашивайте; я человека принимаю целиком… Так вот, с нею у меня связана кровная обида: месяцы спустя после визита Магарика она говорила, что я не стихи Кинжеева хвалю, а стихи Кибирова. Я узнал это с чужих слов, при встрече пытался Дину переубедить; уверял ее, что спутать эти стихи невозможно; но нет, она стояла на своем: «ты хвалил Кибирова». Влюбленность я в себе победил, Дина о ней и не догадалась, а эту обиду — забыть не могу… Кибиров, Кинжеев — умер-шмумер, лишь бы был здоров.
Вышло так, что однажды мы с Диной остались наедине: возвращались в наш пещерный городок из университета в Гиват-Раме, где сидели рядом во время просмотра фильма Покаяние Тенгиза Абуладзе, казавшегося в ту пору событием; шли через пустынные сады к автобусной остановке. Ни словом я с нею не обмолвился о своей влюбленности, не сделал ни одного неосторожного движения.
Потом Володю Бродского, ее мужа, отпустили: из лагерей и в Израиль. Как-то, года через два, привел я к ним в их пещеру абсорбции общих знакомых, помогавших отказникам: гостей из Лондона, Пола и Розалинд Коллинов с детьми. Дину я застал над колыбелью, принимала она гостей не слишком приветливо (я сказал себе: по занятости). Володя как-то не слишком уверенно говорил по-английски, мне приходилось переводить. Про Дину, уж не помню, почему, я думал, что она знает английский по-настоящему, о чем и сказал Коллинам, но она молчала, возилась с пеленками с сигаретой в руке. Джейсон Коллин, младший из двух сыновей английской пары, пожаловался матери на то, что ему мешает табачный дым. Розалинд ответила:
— I can’t stop it.
В 1986 году со слов Дины (она называла себя журналисткой) я понял, что она не отказалась бы от места на Свободе в Мюнхене, и вызвался написать туда; думал, что моя рекомендация поможет; написал русскому человеку по фамилии Грегори, начальнику Али Федосеевой, с которым один раз виделся, но ответа не получил…
Другие, знакомые и незнакомые, тоже слали мне стихи. Всё сносное, а тем более подлинное, я отправлял в журналы, пристраивал. С моей подачи в Континенте, а потом в Стрельце появились стихи Риммы Запесоцкой, Татьяны Котович, Татьяны Костиной, Тамары Буковской, а из москвичей — Александра Сопровского.
Прислали стихи и те двое оставшихся в России поэтов из среды самиздата, кто вызывал у меня в ту пору наибольшее доверие: ленинградка Елена Игнатова и Леопольд Эпштейн из Новочеркасска. Игнатова в полуподпольном Ленинграде составила себе имя. Стараниями Василия Бетаки у нее в Париже вышла книга стихов, что в наших кругах воспринималось как «признание на Западе». Знал я ее мало. Была она почвенница, верующая православная, по образованию — русский филолог. Противостояние подлому режиму сводило тогда в общий круг людей очень непохожих, потом оказавшихся в разных лагерях. Стихи Игнатовой, густо-метафорические, проникнутые русской историей и мечтой о России, с частыми отступлениями от правильной метрики, эстетически были мне почти столь же чужды, что стихи Стратановского, но я чувствовал в них живую жизнь, верил в талант автора — и не сосредоточивался на том, что мне не нравилось.
Об Эпштейне сказано, но отчего ж не повториться? Карфаген должен быть разрушен; что я сказал дважды — правда… Он был выпускник московского мехмата, что уже — доблесть, особенно, если ты еврей из Винницы. Чтобы попасть туда, нужны были недюжинный ум и недюжинная смелость, да сверх того — изрядный аскетизм: ехать в чужой город, жить в общежитии, среди чужих людей… зато уж если решишься и попадешь, тут ты счастливчик: какое окружение, какой уровень! О своем студенчестве Эпштейн говорил: «Мне кажется, что я учился в Лицее».
Стихи Эпштейна почти полностью отвечали моему тогдашнему ригористическому запросу. Я в них дорожил остротой и стройностью мысли, ясным и грустным осмыслением современности; полному же эстетическому родству мешало только одно: дешевые московские рифмы с вывихами. Известен Эпштейн в ту пору был только пишущим, но среди них — тому же самому московскому кружку с Кинжеевым и Сопровским, откуда перекидывалась нить в Ленинград, к Ханану и Дмитриеву. В 1990-е годы Эпштейн эмигрировал, оказался в Америке и нашел там настоящий отклик; балтиморский журнал Вестник (правда, не литературный, но в те годы очень независимый, самостоятельный) назвал его лучшим поэтом эмиграции при жизни Бродского. Я виделся с Эпштейном в России считанное число раз; он бывал наездами в Ленинграде и об эмиграции в ту пору не думал. Последняя встреча, как раз накануне моего отъезда, нас, мне чудилось, сблизила и подружила.
Эпштейн написал нам только в конце судьбоносного года:
«Новочеркасск, 10.11.84, №1
Здравствуй, Юра. Прости меня за то, что так долго не писал. Обещал писать ежемесячно, а до сих пор — ни звука, меж тем, как уж скоро пять месяцев с твоего отъезда… И не было никаких "уважительных причин", чтобы не писать тебе! Мы вас помним и любим, и вспоминаем, и разговариваем о вас… У нас в целом все благополучно (стучу по дереву, плюю три раза через левое плечо, приношу благодарность Богу, Природе, гражданам и организациям). Лиза [первая жена Эпштейна; она потом умрет в Бостоне] чувствует себя неплохо, а это главное… Борька перепрыгнул через девятый класс и сейчас учится в десятом… В июле мы были в Калининской области, жили в глухой деревушке, практически уже заброшенной. Место это — на краю Валдайской возвышенности, в районе Торопцы и Адрианополя, если названия тебе что-то говорят. Обитали мы в старом бесхозном деревянном доме, без электричества, даже без колодца. За водой ходили к роднику, а посуду мыли в речушке. Оттуда я пытался тебе писать, и сейчас это недописанное письмо лежит передо мной. Помню, как странно стало вдруг мне писать тебе оттуда — в Иерусалим… Я никогда раньше не бывал в таких местах, никогда не видел и не ведал этой негромкой гармонии между яркостью отдельных цветов и сдержанностью цветовой гаммы в целом… Пожалуй, эта природа — то, чему более всего созвучны русская поэзия, живопись и даже православная вера… Ты, конечно, в своей знойной палестинской иудее или иудейской палестине разъяришься, обзовешь меня почвенником… и будешь неправ… Лес весьма населен — водятся медведи (мы видели множество следов; свежую, еще дымящуюся кучу медвежьего дерьма), рыси (слава богу, не видели никаких признаков их наличия), волки (слышали вой, видели следы вдоль наших вчерашних), зайцы (спугивали множество раз), лоси (видели только следы, да и то нечасто), змеи и птицы — всего много… Месяца полтора назад нашёл я в почтовом ящике извещение о заказном письме из Израиля, решил, что это ты мне написал, бросился опрометью на почту. Оказалось, что это Авад Разиел из Петах-Тиква прислал мне вызов, который нам сейчас, в общем-то, ни к чему. Почему не пишете? Лиза, между прочим, напоминает, что Таня ей обещала почти сразу написать. Пишите нам. Мы о вас знаем очень мало — всё больше из телефонных разговоров с Ленинградом. Как вы? На каком языке разговариваете дома? Как тебе работается? Что делаешь, что пишешь? Похожи ли те евреи на нас?..»
Эпистолярную прозу Эпштейн перемежал стихами. Вот характерный фрагмент из одного стихотворения:
|
Лес не ищет контакта. Он — сам по себе. Он бесцелен, внепамятен и внелогичен. На поваленном старом квартальном столбе Мы распили бутылку с лесничим. |
Острый ум и прекрасное математическое образование помогли Эпштейну сделать неплохую карьеру в Бостоне, которую он сам же, к удивлению окружающих, несколько обуздал: настоял на своем понижении в должности; случай, согласимся, нечастый. О своей сестре, тоже в итоге оказавшейся в Америке, чуть ли не против ее воли (она была правозащитницей и патриоткой), он говорил, что она зарабатывает деньги «уже просто неприличные». Сам Эпштейн тоже не рвался на Запад. На этот счет у него была престранная философия, сколько помню, сводившаяся к тому, что возвращением к еврейству уничтожается труд трех поколений его предков. Последние годы в Новочеркасске Эпштейн кочегарил; КГБ сильно донимал его. Позже, в эмиграции, мы с Эпштейном встречались и в Бостоне, и в Лондоне; мой капризный нрав привел в 2003 году к нашему взаимному охлаждению.
Замечательно, что это ноябрьское письмо 1984 года Эпштейн отправил по почте фактически без адреса; на конверте значилось что-то несусветное, чуть не буквально: «в Иерусалим, Колкеру»; и письмо дошло.
От Игнатовой в конце 1984 года пришла недатированная открытка с изображением ленинградского сфинкса. «Поздравляю вас с Рождеством Христовыми и Новым Годом… Скучаю о вас, всегда помню… Наш общий замечательный фотоснимок (с котом) стоит у меня за стеклом на полке… Если получишь (или не получишь) мои стишки, напиши мне… Привет вам от всех друзей, ленинградских и московских. Не забывайте нас, а уж мы вас не забудем. Крепко целую. Привет от Володи и Кирилла. Целую вас крепко…» Поцелуев было именно два — надо полагать, по рассеянности. На вложенном в открытку отдельном листе размером А4 было отпечатано десять стихотворений без разбивки на строки.
|
Муза гражданственной скорби — гражданка Петрова. Время линяет, меняет былой колорит. Только она не стареет, смотрит сурово, пламя котельной за ней непреклонно горит… На невезухе-лошадке писатель-непруха гиблого слова из лесу вывозит возок… |
Игнатова оказалась среди тех, кто принял путинскую Россию — потому что эта Россия приняла ее. У многих я наблюдал этого рода конформизм на обывательском уровне («жить стало легче, ждать стало веселей»), от Игнатовой же такого не ждал. На отношении к России мы с нею и поссорились в 2005 году. Оказалось, что «о войне» — о «Великой Отечественной Войне Советского Союза» — нельзя ни полслова сказать критически: ни того, что советская армия несколько запятнала свои ризы в Европе, ни даже того, что на восточном (советском) фронте одна неправда воевала с другой, ни даже того, что по численности русские не составляли и половины советской армии. Приводя факты, я святотатствовал.
В самом начале 1990-х годов Игнатова приехала жить в Израиль на правах новой репатриантки. Ее муж, Володя Родионов, биолог и математик, нашел работу по специальности (в научно-исследовательском центре больницы Адаса), прижился, выучил иврит, она — продолжала жить только Россией. Стали доходить какие-то слова Игнатовой, казавшиеся не совсем осмотрительными. Таня передала мне со слов участницы такую сцену: самое начало 1990-х, разговор в иерусалимском автобусе, три собеседницы, включая Игнатову, говорят о том, как худо стало в России; на какую-то реплику Игнатова откликнулась так: мол, нечего злорадствовать, Россию жалко до слез, а вы тут зря «надеетесь отсидеться». По стечению обстоятельств эти ее слова оказались обращены к женщине, у которой сын погиб на одной из израильских войн.
В Ленинграде, в треугольнике между Новороссийской улицей, Большим Сампсоньевским проспектом (бывшим проспектом Энгельса) и Новосильцевским переулком, имеется небольшой трехэтажный дом старой постройки, видом — усадебный флигель. Там в 1961 году началась моя смерть. Первый осязаемый шаг к смерти — необратимая физиологическая утрата. В павильоне располагалась зубная клиника. В возрасте пятнадцати лет я потерял там первый зуб. Переживал — страшно. Обиделся на мать, за то, что она не делит со мною моих страданий, не понимает даже, что с началом моей смерти — ее смерть приблизилась… Зубодер был грубый мужик с мясистыми волосатыми руками. Вылитый садист. Мог не драть этот зуб, сохранить его, ей-богу мог!
Так на всю жизнь и осталось. Зубоврачебный кабинет не пыточной камерой мне представлялся, а камерой memento mori. Дантисты казались извергами не оттого, что муку причиняли, а оттого, что не хотели сделать всё мыслимое, чтобы сохранить мне побольше жизни. Даже в моем решении эмигрировать — где-то на самом дне присутствовало это: хоть зубы остатние будут мне лечить лучше; и техника там современная, и люди не так злы… Типичный случай. Человек сам расставляет себе капканы, аккуратно попадается в них и патетически восклицает: ирония судьбы!
В начале ноября 1984 года Еврейское агентство (Сохнут) выделило нам с Таней деньги на лечение зубов — как новым репатриантом. Деньги были сумасшедшие: 51000 шекелей, что-то около ста долларов. Ни на что другое истратить их не позволялось, даже на протезирование. Зубы у нас не болели, но дают — бери; второй раз не предложат. И мы взяли.
Клиника находилась в треугольнике между улицами Яффо, Кинг-Джордж и Шаммай. Врача, естественно, хотели мы русскоязычного; хотели и получили. Им оказалась Таня Садовская, годами несколько моложе нас, видом — только что из парикмахерской, стерва в расцвете сил… или я запомнил ее такою. Это проклятая зубовница выдрала мне разом два верхних боковых зуба, из которых ни один меня по-настоящему не беспокоил. Не то чтоб она при этом хохотала, как та Маруся из бульварной песни эпохи начала эмансипации, но, в общем, была недалека от этого. Сказала с каким-то недобрым торжеством в голосе странное:
— Не было зубов — и это не зубы!
С тех пор она для меня поменяла фамилию: стала — Садистская. Отвращение к ней умрет вместе со мною. И ведь что у человека на уме было? Ее муж занимался протезированием. Она, видно, думала, что от нее я прямо к нему отправлюсь; деньги в семью, так сказать. Если уж нашел я спонсора для лечения, найду и для протезов. А может, она подозревала, что я и вообще при деньгах: как иначе я вырвался из СССР, когда никого не отпускают? Такого рода намеки, хоть и не от Садистской, в отношении к нам иногда проскальзывали. И я, действительно, начал какие-то телефонные переговоры с ее мужем — по инерции, от ужаса и отчаянья. Попутно выяснил, что он где-то в волейбол играет (я всё еще очень страдал от невозможности играть хоть чуть-чуть).
Новое мое отчаянье почти не уступало самому первому, тому, что я пережил в 1961 году. Я чувствовал себя инвалидом, униженным и оскорбленным; был буквально раздавлен, не понимал, куда и зачем жить дальше… а между тем жизнь вокруг никак не позволяла расслабиться хоть на минуту… К мужу зубовницы, господину Садистскому, я всё-таки не попал — ни в его живодерное кресло, ни в его волейбольную команду.
Перебираю в уме наших великих русских классиков и спрашиваю себя: где у них зубы? Крестьянский вопрос вижу, а зубовного — нет. «Кто виноват? а судьи кто? что делать?» — всё это тут, на месте, а вот сколько зубов и пломб было у Пушкина, когда его застрелили, это никого не интересует. Ни авторы, ни герои зубной болью не страдают. Любовные муки — пожалуйста; и никаких зубовных. У них что, во рту Парфенон был у каждого? Или о зубах непристойно было упоминать, как о ночном горшке? А ведь зубы — одно из самых страшных мучений в жизни человека: мучений физических и нравственных.
Другой вопрос тоже всегда вертелся у меня на языке: что это за профессия такая: всю жизнь залезать в чужие рты с пилой?! Как при этом ты человека видишь: его божественную сущность — или десна в крови? И ведь не под дулом автомата людей в дантисты загоняют; сами они выбрали себе такое занятие. Непостижимо. По мне — лучше у станка стоять, бочки катать, улицы подметать… Или, может, там у них какая-то философия подстилающая имеется, мне недоступная? Не о деньгах ведь думают в семнадцать лет, когда учиться идут… Игорь Рубель, известный шахматист, мой начальник в Гипроникеле, где я в пятнадцать лет начал работать (то есть бить колбы и устраивать короткие замыкания), говорил мне в ответ на мои недоуменные вопросы об устройстве общества:
— В каждом поколении бóльшая часть людей приносится в жертву неинтересным профессиям.
Понятно: не хватило у человека ума стать инженером — он идет в дворники; но в дантисты, своим ходом?
В моей жалкой судьбе зубовница Садистская просто должна была появиться. Чрезвычайно характерно, что она появилась и тут же исчезла. Иногда мне кажется, что господь бог сотворил ее ровно на три недели, чтоб проучить меня-дурака; потому что больше никогда в жизни я ее не видел и не слышал о ней — это в маленьком-то городе, в языковой общине, где все знают всех.
Не скажу, чтоб Садистская была характерна для Израиля. Два других дантиста не только исчадьями ада не казались, а просто были добры ко мне. Спустя месяцы, когда я начал зарабатывать… пардон, получать зарплату, я стал ездить в иерусалимский район Рамот, к Анне Марковне Иоффе, принимавшей прямо у себя в квартире. Она была обходительна, сочувствовала моему горю, исправила, что можно было исправить после погрома Садистской, деньги взяла с меня умеренные, но всё рано заплатил я больше, чем мы с Таней получили на двоих из Сохнута. После Анны Марковны мой облик оказался скроен не из одного, а из двух кусков.
Третий мой израильский дантист, Виктор Мельман, был и вовсе удивительный человек: мой читатель. Нет, не стихи, конечно, он читал, а какую-то публицистическую прозу… хотя кто знает? Автограф на книге стихов я ему точно давал. Вот кто и в самом деле казался мне мудрецом с подстилающей философией (каковым вообще всегда должен представать пациенту всякий настоящий целитель). В связи с Мельманом я не спрашивал себя: что это за профессия. Отдавался ему в руки с доверием. И вот вам чудо из чудес: был случай, когда Мельман вовсе не взял с меня денег за пломбу. Просидел я у него в кресле больше часу — и вышел, не обеднев ни на шекель. Кажется, я в этот момент был без работы, и он знал об этом, но здесь для меня даже не в деньгах состояло главное, здесь самый жест с его стороны был драгоценен. В сущности, физическая и нравственная мука в зубоврачебном кресле с детства всегда выливались у меня в одно: в жажду сочувствия и участия со стороны дантиста; нестерпимо хотелось, просто мечталось, чтоб он во мне человека видел. Мечталось — и осуществилось, притом в Израиле. Сейчас я спрашиваю себя: те московские дантисты начала XX века, которые Маяковского лечили за автограф, не из евреев ли были?
Через год или два, в приемной перед кабинетом Мельмана (улица Шаммай, 12-гимель), я как-то столкнулся с Воронелем, приезжавшим из Тель-Авива по той же надобности. Он уходил и прощался; мне нужно было садиться в кресло, для разговора времени не оставалось; но кое о чем мы всё же успели перемолвиться. О чем? Об эстетике; не о сионизме же. Я поругал кого-то из его авторов за плохой русский язык. В ответ Воронель назвал меня пуристом (случилось это во второй раз в моей жизни, первый — на счету Глеба Семёнова; третий раз то же самое скажет Житинский в 2003 году). Коснулись и зубовных дел. На мои сетования, что вот, мол, не повезло мне в жизни, зубы выдались плохие, сионист не утешил меня в моей общечеловеческой скорби (как я на то рассчитывал), а произнес назидание:
— Зубы, — сказал он, — нужно было в России делать.
То есть он думал, что уж в России-то у меня, как у всех, деньги были… да и не о зубах это было сказано, не о юдоли слез людских, а о протезах. Что до денег, то хоть и очень бедны мы были в Израиле, а рядом с бедностью нашей в Ленинграде новая бедность могла казаться зажиточностью.
Тогда же Воронель предложил мне писать… о нравственности (видно, рассудив по пословице с паршивой овцы хоть шерсти клок). В сущности, он тут был последователен: сам в своих писаниях интересовался этикой, и обратился, к кому следовало: меня тема занимала. Я потому и запомнил это словечко — пурист — что оно мне казалось узким. Сам-то я считал себя в ту пору ригористом.
Без некоторых еврейских словечек не обойтись; они вошли в плоть и кровь… употребляют же, притом все кругом, слово хохма и еще десяток подобных, взятых прямо из иврита. Шмира — ничуть не хуже; означает: охрана; шомер — переводится как сторож… А еще ведь есть выражения, которые без оглядки на еврейскую культуру не истолкуешь. Что, например, значит по-русски свинью подложить?
Пятницы мелькали, словно пятки. Серьезная работа для меня еще не маячила; деньги, странное дело, были нужны (они почему-то всегда нужны), а тут мне говорят: есть место в шмире. Существуют в Израиле специальные частные компании, поставляющие сторожей другим компаниям и учреждениям. Работника (сторожа) обычно доставляют на место дежурства и привозят домой после смены; так и у меня потом случалось, но на свою первую шмиру я ездил сам, добирался на двух автобусах вечером, и так же возвращался утром; а билет стоил 70 шекелей. Сторожил я министерство жилья и строительства, мисрад-а-шикун-вэ-биньян, новенькое здание из теплого иерусалимского известняка с традиционной для местных новостроек рустической облицовкой. Просторный холл, в котором я сидел с напарником, тоже русским, казался мне дворцовым залом. Во всём здании были полированные каменные полы под мрамор, такие же, как и всюду в Израиле, включая частные квартиры (исключая — только наш пещерный городок, где пол был бетонный); эти сияющие полы всё еще изумляли меня, особенно тут, в новом здании, где в них можно было глядеться, как в зеркало… С напарником мы потом устроили так, что ночью дежурил только один из нас. Обязанности были несложны: обходить помещение, проверять сигнализацию; труднее всего было отвечать на телефонные звонки, впрочем, нечастые; снимая трубку, я сжимался в комок — и зря: от шомера никто хорошего иврита не ждал. Первый раз я вышел на дежурство в воскресенье, 12 августа 1984 года.
Время не должно пропадать даром; на дежурствах я писал письма. Сейчас мне эти письма легко отличить: все они — от руки (дома я писал на машинке под копирку). Компьютеров в ту пору в офисах не было, зато было в изобилии представлено другое чудо техники: копировальные аппараты. От них — дух захватывало. В СССР, на всех его двадцати двух миллионах квадратных километров суши, каждая отсканированная страница регистрировалась государством — так боялись большевики хоть подобия бесцензурной публикации; за нелегальное пользование ксероксом — срок можно было получить; а тут — ешь-не-хочу!
Написав письмо, я тут же, дрожа от возбуждения, снимал с него ксерокопию, иногда — уменьшив масштаб (еще одно чудо)… Кто чуть-чуть не злоупотребляет на рабочем месте? Принес домой со службы казенную канцелярскую скрепку — уже украл. Я тоже не ограничился ксерокопированием; оказался клептоманом: таскал домой скрепки, карандаши, бумагу (не пачками, страниц по двадцать). Один раз, обходя четвертый этаж, нашел на подоконнике драный дырокол, явно ненужный (на столе стоял новенький), и не удержался, тоже украл… он и сейчас передо мною, служит исправно четверть века, сделан, должно быть, в 1970-е, а что краска облупилась (еще до меня), так делу это не мешает.
Туда, на шмиру, мне и знакомые звонили, а иной раз и заходили (в нарушение устава).
Одно письмо я начал в тот самый день, 12 августа, но еще дома, в пещере абсорбции:
«…Говорят, я скоро перестану понимать по-русски, а уж о русской литературе, советуют старожилы, надо и вовсе поскорее забыть. Таков глас большинства. Но, странно сказать, у моих стихов здесь нашлись читатели, а ведь я ненавязчив. Просят со скептической улыбкой — возвращают (не все, но некоторые) с отзывами, которые не стану и пересказывать. Чрезмерным похвалам я вообще не верю…»
Мне легко было оставаться скромным. Я не оттого «чрезмерным похвалам» не верил, что они чрезмерны; как раз наоборот: оттого, что самые чрезмерные — и близко не отвечали моим дальним грезам. Скромность же объяснялась просто: я знал, что моя жизненная программа не осуществлена и на десятую долю; готов был признать, что итог мой пока скромен… пока! А ведь я уже Пушкина пережил …
«Письмо от Наташи Рощиной получено, просьбу ее выполнили: дерево посадили, мы его поливаем; но будет ли плодоносить?.. Спасибо, что написала Сереже [Дедюлину], я ему тоже написал, и давно, но ответа что-то нет. Возможно, он переехал, а возможно и другое. Я не слишком спешу с литературными контактами, не слишком полагаюсь на литературных друзей, старых и ожидаемых… Пусть Сеня постарается деликатно выяснить, не нуждается ли Г. И. в материальной помощи. Меня это очень беспокоит… Мы часто бываем в Вифлееме, от нас туда можно идти пешком. У Вифлеема есть свой символ — и знаешь ли, какой? —
|
Вообрази: глазеем немо На сонмы торжища, когда Над нами реет Вифлеема Пятиконечная звезда… |
Вокруг столько чудесного и удивительного, что по временам мы чувствуем себя вполне счастливыми — как бывало только в юности. Кстати, забавно, что мы с Таней опять, спустя 23 года, сделались одноклассниками…»
Таня в тот же день писала тому же адресату:
«…Иврит 5 раз в неделю по 5 часов, много домашнего задания, которое мы не всегда полностью делаем, т.к. у нас, как в Ленинграде, непрерывный поток гостей. Юра по большей части занят писанием. Сегодня у меня сильная головная боль и я не ходила в ульпан. Я простудилась несколько дней назад, теперь болит лобная пазуха, насморк, и жить стало плохо… Юра по-прежнему очень раздражителен и несдержан, в непрерывном конфликте с Лизой. Разумеется, и Юре далеко не всегда плохо, скорее — наоборот: изредка плохо, а по большей части хорошо, но ты же знаешь Юру, раздражиться ему ничего не стоит… Лиза сейчас ходит в летний лагерь для детей олимов, ей там очень нравится. Их возят в бассейн, в зоопарк, в музеи и т.д. … Конечно, здесь есть не всё. Например, черники, брусники и клюквы нет и быть не может…»
Письма на шмире я писал невероятной длины: случалось, бисерным почерком исписывал по четыре страницы формата больше А4.
«…Вы спрашиваете: как здесь обстоят дела с Богом? — неважно. Религиозная молодежь радовала меня в Ленинграде — и раздражает тут. Многое носит уродливые, карикатурные формы. Вообразите семнадцатилетнего мальчика, сутулого, длинношеего (совершенно особая посадка плеч), худого, как щепка, во всём черном: фетровая шляпа с лентой, специального фасона; длиннющий лапсердак (одежда — из Польши, кажется, XVII века, нарочно придуманная поляками для евреев — чтобы отличать их); плотные чулки (штаны короткие, подвязанные, из-под лапсердака не видны), тяжелые башмаки, — всё черное, а на улице 38°С; пейсы, завитые в косички, свисают до плеч; на бритый затылок, из-под шляпы, выползает кипа… Во взгляде — дикое, фанатическое высокомерие. А теперь герою сорок пять: он, наоборот, толст до безобразия, появились очки, взгляд потух, щеголеватость уступила место неряшливости… Нет, я не против религии, упаси Бог; но здесь, более чем когда-либо, я почувствовал, как пошло настаивать на единственности открывшейся тебе истины; и — что я никогда не примкну ни к одной из существующих конфессий…»
Следовало бы сказать сильнее: «ни к одному коллективу». Не оказалось на этом свете коллектива, в котором было бы мне хорошо. Тогда же, помнится, я придумал красивую фразу: добровольно не порываю только с двумя коллективами: с семьей и с человечеством.
«Жаль, что Вы уговариваете Сеню не помогать Ване. Я очень доверяю Вашему чутью и с тяжелым сердцем прочел это место в Вашем письме. Я ведь тоже помогал ему. Но не лучше ли обмануться так: помочь недостойному — чем оставить без поддержки страдающего?
Вы спрашиваете, зачем делать к стихам анекдотически скрупулёзные примечания? — затем, дорогая, что это дневник. Дата и два-три незначительных слова-указателя под стихотворением возвращают мне не только толпу мыслей и картину целого дня, они возвращают наслаждение, которое я пережил, впервые услышав музыку будущего стихотворения (каким бы оно ни получилось в итоге). В юности я стеснялся делать эти пометки — и целые годы выпали из памяти сердца, будто я и не жил…
…я зарекся писать статьи на общие темы. Потребность в полноте (при нехватке времени) не дает возможности доводить их до конца. Удобнее и плодотворнее — комментарий, общие замечания в связи с конкретным предметом разговора…
Вы правы, в последней строфе одного длинного стихотворения (там, где рядом инкарнация и тенёта: соседство, раздражающее не только Вас), есть косноязычие; не настаиваю (хоть и надеюсь), что — высокое. Поправлять не хочется… Лёня Эпштейн, как и Вы, указывает мне, что "И дик…» читается как "иди к… ", и даже предлагал мне свой вариант (который я забыл). Но мне хочется оставить как есть… »
Мое дежурство в ночь на 13 августа всё еще не кончилось… Вот — из письма к Маше Кельберт:
«Жару Таня переносит с трудом: сутки в Тель-Авиве (первые, как приземлились) она была в полуобморочном состоянии; но у нас здесь — легче: по вечерам и ночью прохладно. Было у нее несколько тяжелых приступов головной боли — но от жары ли, не знаю… Не только жару, но и инфляцию Таня переносит неважно, сейчас она 400% в год (не Таня, а инфляция; Таня так примерно 80%)… Я довольно часто бываю в Тель-Авиве — поездка сама по себе большое удовольствие: прекрасное шоссе, дивные пейзажи Иудейских гор. Был я там на трехдневном профсоюзном семинаре: лекции по истории, экономике, культуре; жратва от пуза, причем накладываешь сам, — не изысканная, но вкусная, кофий — из автомата без ограничения — всё бесплатно; лекции можно было пропускать, чем я не злоупотреблял, но всё же был на пляже и у Нудельмана…»
В понедельник 17 сентября 1984 года я писал в США:
«У меня дважды брали интервью для местного радио, и я трижды выступал по Свободе, причем обещают, что Свобода заплатит… Лиза уже пошла в школу, где бездельничает по незнанию иврита и очень этим довольна. Росту в ней 150 см, нейродермит (диатез) здесь пошел на убыль… У Тани — сильные головные боли от ее позвоночника. Давление ей, вроде бы, сбили, но и с ним не всё ОК… Знакомых у нас здесь (за три месяца!) уже столько же, сколько было в Ленинграде. Первое время нас просто рвали на части, от визитеров не было отбою. Беспрерывно звали в гости, конечно, с доставкой в оба конца. Мы приехали почти голые, и нам надарили тряпок и сковородок… Мы и так ваши должники, но если все же ты, Женя, решил что-то сделать для нас, по пришли книг: по программированию и русской классики (и неоклассики) — притом только из числа лишних в твоей библиотеке. Меня, конечно, больше всего интересуют поэты: Мандельштам, Ахматова, Цветаева, Пастернак, а из новых — Бродский, Бобышев и Цветков. Быть может, у вас что-то содержится в двух экземплярах…»
Потом, в 1990-м, я гостил у них в доме, в штате Нью-Йорк. Женя и Вика Левины были нормальные люди: книг у них не оказалось вовсе, не то что русских поэтов; зато деньгами — они помогли.
Седьмого ноября я писал Рите Шварц в Ленинград:
«Большое спасибо за высылку книг. К сожалению, я не уверен, что я их получил: в моих делах (и в моей голове) большой беспорядок. Часть книг (посылали ведь многие) пришла моей сестре [старухе Лии Колкер, присылавшей вызовы], а у нее я их получил уже без конверта — и не знаю, от кого. Вообще же кажется, что большая часть книг потеряна в пути. Жаль, но — как-нибудь обойдемся. Русские книги здесь дóроги (а в Европе и, особенно, в Америке — дёшевы)… Между прочим, я бы хотел всё же получить оттиски моих научных работ, они, вероятно, у Сени: пожалуйста, наведи о них справки. Слишком велико искушение вернуться к научной работе, здесь в этом смысле большие возможности. Другой путь — программирование: возможности еще бóльшие, и заработки больше. Но я крепко забыл и то, и другое; а самое главное — работать не хочется; помнишь песню Хвостенки: "А я работать не хочу…"? Так вот — не хочу, и всё тут… Прокормиться можно подножным кормом.
Ей же, продолжаю 11 ноября:
Письмо это пишу в министерстве строительства, где служу (время от времени) ночным сторожем, причем за 12 выходов получаю примерно столько же, сколько нам дают в месяц на семью… Сегодня днем нас навестили англичане, бывшие у нас на улице Воинова — Джекки и Брайан [Чернетт]: Сеня их знает. И сегодня же подохла птичка, подобранная Лизой на улице, большая такая, с голубя, но на длинных лапах — возможно, птенец; вчера еще бегала и даже пыталась летать, а сегодня так явственно начала отходить — это надо было видеть. Таня возила ее в город, в зоомагазин, но там ничего не поняли или не захотели понять… Вообще мы живем на отлёте: Гило — южный (или юго-западный) пригород Иерусалима, на 800 метров выше уровня моря; и поездка в город — вещь утомительная (уж очень лихие водители, и крутые спуски и повороты) и дорогая (примерно 15 центов, а получаем мы $100 в месяц, — разумеется, всё в шекелях: 70 I.S. и 50000 I.S. соответственно; цена автобусного билета — и наша стипендия — выросли за это время вдвое: инфляция у нас 1000% в год… Иерусалим — единственный город, где зимой топят; в ноябре начали топить по 2 часа в день, этого недостаточно, поэтому иногда в квартире холоднее, чем на улице, где солнце… Теплой одеждой нас задарили сверх всякой меры. Я, например, получил дубон — теплую непромокаемую куртку защитного цвета, и кучу свитеров, от поношенных до самых новых, из Англии. Забавно, что прав у новых репатриантов стало меньше, а внимания к ним — больше, и всё компенсируется. Мы окружены очень интересными людьми, густота русской интеллигенции здесь — не меньше, чем в Ленинграде. Я подал заявление в тутошний союз писателей; будут, кажется, платные выступления; получил один гонорар ($20 в шекелях). Конечно, людей, понимающих стихи, и тут — единицы: это — нормально. Зато мой Ходасевич тут в чести, и доступен…»
Даже к 8 декабря 1984 года я всё еще не получил важных документов, шедших окольным путем. Из письма к Римме Запесоцкой:
«Я не уверен, что посылать мой архив Сереже [Дедюлину] было правильным. Не знаю, в чем дело: вот уже три моих письма, притом важных, остались без ответа. Первые два его письма были полны обещаний, и вот — пропал. В отношениях с ним я готов к худшему. Вообще: они там вынуждены считаться с израильтянами, но, похоже, что отношения между двумя очагами русской культуры далеко не безоблачны… Хорошо, что послали автореферат, но очень бы хотелось получить также не списки, а сами мои естественнонаучные публикации — в репринтах и книжках… Спасибо Сене за посылку книг Белянина, они мне нужны… Люся Степанова проделала неимоверную и столь важную для меня работу по переписке текстов: всё дошло, тысяча благодарностей ей. Твое и Г.И. свидетельства о Мифе окончательно убедили меня в том, что заниматься им не следует. Сообщи Александре Александровне, что мы ему больше не друзья. Передать Мифа какой-либо организации, как советует Володя Лифшиц, не очень-то просто: никто не берет. От Лёни Эпштейна получили письмо — с адресом буквально таким: в Израиль, Колкеру; оно дошло за две недели; Таня над ним прослезилась: там очень прочувствованно описан среднерусский пейзаж. Сейчас я занят мишиным текстом [экскурсии Михаила Бейзера по еврейским местам Петербурга], которым занимался еще в Ленинграде: перепечатываю его для публикации, но — не для той, которой он ждет [то есть: не для лондонской]. Московской пожилой паре [Григорию Померанцу и Зинаиде Миркиной] передавай привет. Плохо, что они болеют. Конечно, они оба замечательные люди, но от тебя не скрою, что, перебирая в памяти мои с ними последние встречи, вижу и слышу не только хорошее. О Мулете я кое-что читал: статьи столь же глупые, как и сама Мулета. Пошлость бессмертна. Спорить с нею не следовало бы…»
Сюда, в этот мраморный дворец, в шмиру, пришла ко мне как-то поэтесса Рина Левинзон: выслушать мою критику на ее стихи, естественно, суровую, но справедливую. Я готовился не на шутку; конспект сохранился. Придирался ко всему, начиная с запятых, но и отечески поощрял писательницу, которая была несколько старше меня и вполне утвердилась в израильской жизни.
— «…Нельзя писать слово родина с прописной буквы: это дурной тон. То, что их две [родины], — прекрасно. Интонация стихотворения безукоризненна…
— …"Последнее блаженство", вместе с форелями из сл. стихотворения — невозможно отстранить мысль о том, что это — заимствование из Кузмина…
— …Мн. число от музыки — неловкость…
— [о верлибре] …Здесь нет стихотворения: нет искусства (хотя и есть поэзия)…
— [о стихотворении Иерусалим] …Снимите или измените название: оно содержит в себе неизмеримо больше, чем текст, который собою открывает…
— …Метафора — недостаточный повод для стихотворения…
— …Все стихи, кроме верлибров, написаны классическими метрами; поэтому вряд ли нужно начинать строку то с прописной, то со строчной: нужно единообразие, и лучше — с прописной… Если говорить по очень большому счету, то в некоторых стихотворениях мне не хватает интенсивности, густоты…
— …Вдохновение — всюду подлинное и чистое, эстетический ракурс — безупречный…»
Мне очень хотелось похвалить Рину… не столько даже ее, сколько хоть что-то в той русской поэзии, которая пошла на меня косяком в Израиле — и в которой преобладал сионистский Пролеткульт. Примерно в том же ключе, что эти заметки, написана и моя статья о Рине Левинзон, первая из опубликованных мною в Континенте. Там я писал, что «дарование Рины Левинзон — одно из самых подлинных в современной русской поэзии». Весь русский Израиль от этих слов присел на рессорах — потому что Рину держали за середнячка и, главное, потому никто, как это всегда и бывает, не прочел фразу внимательно. Все услышали: «одно из лучших дарований», чего я не писал и не думал. Думал же я то, что на безрыбье и рак рыба. Вперемешку с сионистским Пролеткультом — громадным косяком шла на меня в Израиле пустая рифмованная болтовня, пошлое кривлянье с вывертами и неимоверными претензиями. Здесь же, в случае Рины, всё было естественно и просто; стихи — очень женские: о любви (и о родине, о двух родинах); влюбилась — написала; еще раз влюбилась — опять написала. Уровень — нормальный, выше среднего, вроде Есенина или Рубцова, в смысле ума и культуры — заметно ниже Юнны Мориц (которую Рина, что и неглупо было с ее стороны, держала за образец, только не дотягивала), но главное — без нарочитой филологической пошлости, без трюков, адресованных не Богу, а доцентам от литературы. Такое и нужно было похвалить. Моя эстетическая программа прямо этого требовала. Незачем говорить, что русский Израиль увидел тут не мою эстетическую программу, а любовную интрижку, но к подобного рода незаслуженным обидам я быстро притерпелся. В тесной общине, тесной в особенности из-за неполноты участия в общей жизни, сплетня была той самой кровью, которой тени просят у живых в краю Персефоны.
Рина представляла собою очень советский продукт; людей делила на писателей и читателей, болела памятью о больших советских подмостках с пошлыми громыхателями, совершенно немыслимых в новых условиях. От меня она тоже ждала не рассуждений «с одной стороны — с другой стороны», а чистого восхищения ее стихами. Не получив его, всё же расслышала похвалу (да и рецензия в Континенте, будь она хоть ругательная, уже была подарком судьбы; настоящий удар — отсутствие откликов) и в долгу не осталась: всячески опекала нас (полученные от нее суповые тарелки служили нам лет двадцать, в Англию с нами поехали), устраивала себе и мне совместные выступления, писательские семинары с кормежкой, привела ко мне корреспондента Маарива, подталкивала меня энергичнее отвоевывать жизненное пространство (сама была очень деятельна), даже уговорила меня записаться в аспирантуру на русскую филологию иерусалимского университета. Последнее казалось мне и странным, и совсем ненужным; степень у меня и так была; мой Ходасевич, если б я поднажал, принес бы мне степень и по филологии, — но только этот труд был и по смыслу, и по своему значению для меня чем-то неизмеримо большим, чем диссертация и степень; а главное — он был пройденным этапом… Я нехотя уступил нажиму Рины, был зачислен в аспирантуру, заплатил какие-то деньги, сходил два раза на лекции Сермана, где оказался в числе трех или четырех слушателей, но быстро заскучал и забыл об этом… На рубеже XXI века, в Лондоне, на русской службе Би-Би-Си, гость из Иерусалима, Роман Тименчик (в 1984-м он был еще в Риге), напомнил мне, что я всё еще числюсь аспирантом его иерусалимской кафедры. Шарман-шарман.
В каждом израильском городе есть улица Пруга… то есть, собственно, Фруга, Семена Григорьевича (1860-1916), но если вы правильно произнесёте фамилию, таксист вас не поймет: современный иврит начальную эф отвергает. Семен Григорьевич писал стихи, преимущественно по-русски, и писал плохо. Про него сказано: «еврейский Надсон», но едва ли это не похвала. Человек аккуратно зарифмовывал Библию и Агаду. Стихи эти, заунывные и риторические, обращены в прошлое, отслеживают пробуждение первой, робкой гордости в ассимилированном русском еврействе после погромов 1881-82 годов. Чуть-чуть Фруг и протестовал («Два достоянья дала мне судьба: жажду свободы и долю раба»), но не слишком. Если от поэзии отправляться, он с Демьяном Бедным соперничает. Тем самым еврейство он унизил так, что хуже некуда, но современники совсем другое в нем увидели и услышали. За его гробом шло сто тысяч человек. Некрасова подобным образом не провожали, не говоря о Пушкине. Памятливый народ евреи, благодарный, а пошлость бессмертна — и стихи ровным счетом никому не нужны. Людям другое нужно; на худой конец это другое и в стихотворной обертке сойдет.
Или вот еще Яков Бергер был — и тоже улицу по себе оставил, притом в Иерусалиме. Возможна ли бóльшая слава, лучшее воздаяние? Счастливчик! Или не совсем?.. Поэт Владимир Ханан, на пятый год жизни в двух шагах от этой улицы, с удивлением узнал, что она — имени поэта, писавшего по-русски. Родился Бергер в 1926 году в Тель-Авиве, по глупости отца угодил в Россию (где отец попал куда следует и пропал), писал не лучше Фруга, но на авангардистский лад. Потом в Лондоне жил, на Би-Би-Си работал (сохранилось премилое высказывание: «страшно терпимы и милосердны англичане к калекам, уродам, идиотам. Единственное уродство, которое они не терпят — иностранный акцент»), а вот когда он умер — никто сказать не может, даже еврейская энциклопедия; молчат могилы, мумии и кости… стихи же, прав Бунин, немножко не молчат:
|
Доставленный поутру бродяга, Дятлов, Велемир, еле дотягивается до одеяла и отходит в лучший мир. |
А мог Бергер и так сказать: «Девочка с косминкой на ремне, девочка с косичкой, на Венере, скажет, чуть споткнувшись, обо мне, о моих манерах и карьере…» Не совсем Гёте; чуть-чуть недотягивает.
В мое время кандидатов на улицу в Израиле было человек сто. Один из них, Михаил Генделев, так прямо и говорил о себе: помру — моим именем улицу назовут. А что? И назовут. Много ли евреям нужно? Хорошо помню, что когда мы составляли в Ленинграде антологию Острова (где евреев и выкрестов — чему сами мы были не рады — оказалось 40%), Генделев попал туда с большим скрипом, под нажимом Славы Долинина, единственного из четырех составителей, кто сам стихов не писал. Долинину и его партии нужно было показать, что неподцензурная литература многолюдна, не уступает советской. Ну, и включили мы, поморщившись, Генделева. Что он ни на дюйм не высовывается над ватерлинией, даже Долинину было ясно. Я сил не пожалел: добросовестно выискивал в стихах Генделева хоть какого-то проблеска; но усилия пропали зря; ничего не нашлось. Это было типичное читательское дарование, расхожий общепоэтический набор, с яканьем, бряканьем и брыканьем…
Характерно, что там, в Ленинграде, в подвале Шнейдермана, где составлялись Острова (работали мы над антологией больше года), Генделев попал ко мне в руки с важным преимуществом: я никогда не слышал его имени. Это означало не только отсутствие предвзятости. Вместе с другими составителями (исключая Долинина) я исходил из презумпции, что необходима ревизия в рядах полуподпольной литературы. Иные имена, вроде Кривулина, были у всех на устах, а прикрывали нечто незначительное, если не вовсе пустоту. Хорошо помню, как я благодарно ахнул над стихами Алексея Лосева: «Петренко вскочил в половине шестого». О Лосеве я тоже не слыхал — но тем больше и неподдельнее была моя радость… Носился я с Лосевым еще и в Израиле, начал даже писать статью о нем, о его книге Чудесный десант, да не закончил, отчасти потому, что нужда в этом отпала: как раз в 1980-е годы над Лосевым, уже Львом, а не Алексеем, начал ахать (устами Миши Хейфица) весь Израиль — после его строки «Слева лось сохатый, справа лев пархатый», в которой видели большую поэзию… Дальше я в Лосеве несколько разочаровался, и не потому, что одну из последующих своих книг он несколько неоригинально назвал Послесловием (забыл, видно, что сборник стихов с таким названием ему уже прислан… хотя — разве в названии дело? Вот ведь и Гамлет был до Шекспира написан, и не раз…). Нет, Лосев писать стал иначе, в духе Льва пархатого, с гастрономическим уклоном: «Осетринка с хреном поплыла вниз по батюшке, по пищеводу». Над этим уже путинская Россия ахнула, но не вся. Один хороший поэт из русско-мордовской глубинки писал мне в связи с этим шедевром, что теперь называет Лосева не иначе как Львом Пищеводовичем.
Над Генделевым же мне ахнуть так и не удалось. Разумеется, и писать я о нем не собирался: не было состава преступления; простыни, как говаривал Мандельштам, не смяты. Между тем в Израиле Генделев ходил в гениях. Сперва я изумился. Уверял себя, что не все ведь вокруг глухи к родному слову: люди опомнятся, да вот и я им помогу; механизма этого карликового величия — не понимал. Потом, годы спустя, мне помогли. В 1992 году вышел сборник интервью Валентины Полухиной Brodsky through the eyes of his contemporaries, где Анатолий Найман, на вопрос Полухиной «Как далеко Бродский ушел от нас, читателей, и от вас, поэтов его поколения?» (каков вопросец!) сказал в связи с Бродским: «Людям нужен товарищ Сталин в самых разных областях». Так и тут. Фетиш — душевная потребность толпы. Ей нужен вождь; нужен дуб, под чьей сенью могли бы свободно расти грибы. У русских — есть такой фетиш, выдвинутый в пику советской власти: Бродский. Ура. Неплохо, что он из евреев. А нам, израильтянам, тоже нужно выдвинуть что-то в пику советской власти и русской литературе нравственного сопротивления. Тут, как нельзя кстати, подворачивается Генделев, со спокойной уверенностью заявляющий, что он — гений. Подворачивается вовремя: в разгар выезда, как раз тогда, когда вакансия просто алчет замещения, тоскуют по человеку. Разбираться особенно некогда; дело спешное. Лучшего кандидата не видно. Главному критерию кандидат удовлетворяет: он — сионист. А стихи? Ну, пошловаты… да ведь поди отличи пошлость от гениальности.
Генделеву я должен был передать в Израиле привет от его сокурсницы Маши Кельберт, с которой мы геройствовали в отказе. При первой же случайной встрече в Тель-Авиве я поручение выполнил, добавив без комментария, что его, Генделева, мы включили в антологию Острова. Гений проявил широту души: предложил мне, недавнему репатрианту, свою помощь. Я с детства сутулюсь — с той поры, когда ростом заметно опережал своих сверстников. Тут я плечи несколько распрямил и от помощи отказался. Сделал я это вежливо, но человеку с банкой мускуса в кармане (как говорит Саади) незачем оповещать об этом окружающих. Думаю, что даже Генделев догадался, что я думаю о его стихах. На этом наше общение закончилось. В последующие годы раз или два мы оказывались в общих компаниях, но я при этом никогда в разговоре не участвовал. Передали мне как-то его слова насчет Тани: мол, повезло Колкеру; «а может быть, кто говорил, соврал». Маша Кельберт (она вырвалась из объятий родины-матери в 1987 году) при мне Генделева упоминать избегала.
Но это всё потом, а в год приезда я сперва увидел только сионистский Пролеткульт, шедший густой фалангой с ямбами наперевес и с Генделевым на колеснице, запряженной единорогами. Пройдя сквозь фалангу и оглядевшись, я выделил двоих: Александра Верника и Владимира Глозмана. Им, в отличие от Рины Левинзон, никак не нельзя было приписать «дарование самое несомненное»: дело замутнялось культурой и мастерством. Это ведь признать нужно: мастеровиты и культурны чаще всего те, кому сказать нечего; то самое племя, которое всего охотнее холят и лелеют литературоведы, сами к нему исподтишка примыкающие. Именно по этому разряду при жизни проходил у большинства Мандельштам; говорили: он холоден, пуст, неискренен, набил руку, жонглирует словами, перекладывает кусочки шелка из одной корзинки в другую.
Третьей, в некотором отдалении, шла у меня упомянутая Шаховской «очень хорошая поэтесса» Лия Владимирова. Здесь, однако ж, имелась трудность, не сводившаяся к тому, что вкусу Шаховской я не доверял. Даже мне, с гордостью называвшему себя реакционером и ретроградом, на дух не переносившему авангарда, — Владимирова казалась, осторожно говоря, излишне традиционной. Я и сегодня думаю в точности, как тогда: что дарование это подлинное, одного масштаба с дарованием Рины Левинзон, но робкое: тютелька в тютельку, чтобы можно было, глубоко вдохнув, произнести слово поэт; ни на вершок выше. Но как это было много в краю непуганой филологической черни! Стоило человеку отказаться от знаков препинания, его уже поэтом провозглашали.
О Вернике и Глозмане я собирался писать. Помешали, как это часто бывает, личные отношения. Ссоры я ни с кем не искал… я просто носил ее в кармане. Своих стихов — никому в нос не пихал, но свою эстетику — пихал, лез с нею, куда не следует… да и с этикой был всем поперек горла: твердил, где ни попадя, что я не сионист, а толстовец. Ну, и не понравился я этим двоим, хотя с Глозманом — я прямо искал дружбы, так он мне был симпатичен… Потом, в 1990-м, Игнатова писала мне из Иерусалима в Лондон: «Ты не представляешь себе, сколько у тебя врагов и завистников» (завидовали, не подумайте дурного, только в связи с тем, что я попал в штат Би-Би-Си… ох, и зря же завидовали!).
С Верником мы поцапались почти сразу, на одном из выступлений в клубе (на местном наречии — маадоне) для новых репатриантов в Гило. Слушать стихи собирались старушки да старички, перед которыми Рина Левинзон держалась так, как если б в Колонном зале выступала. Верник что-то похвалил из моих стихов, но с оговоркой; мне оговорка не понравилась; ему не понравилась моя реакция. Деталей память не сохранила; на всякий случай беру вину на себя; зато хорошо помню характерный разговор с Верником, случившийся в конце 1980-х.
По образованию юрист, Верник работал в самом центре Иерусалима, чуть ли не в здании Мирказ-а-ир (имя, как раз и означающее: центр города). Я зачем-то забежал к нему на работу. Говорили мы на пожарной лестнице… не на железной решетке, а на обычной лестнице с площадками, которой никто не пользовался, потому что в этом высотном здании все пользовались лифтами. Каким-то образом речь зашла о Владимире Максимове, редакторе Континента. Я сказал, что он представляется мне писателем незначительным, советским со знаком минус, на что Верник возразил мне совершенно обескураживающим образом:
— Юра, Максимов умирает!
С тех пор мы не виделись.
В целом — уровень израильской русской поэзии, при сонмище людей одаренных, казался мне совершенно местечковым до самого начала 1990-х: до появления в Израиле Елены Игнатовой, Анатолия Добровича и Наума Басовского. Собственно говоря, Добрович приехал еще в 1980-е; я мог бы отличить его раньше; смешно сказать, в числе других членов комиссии при союзе писателей, я принимал его в этот союз в 1987 году… Но Добрович начался для меня с его публикации в 1992 году в журнале Двадцать два, со стихотворения Танцы на набережной Тель-Авива, когда меня словно током ударило. Я сказал себе: израильская поэзия вышла из гетто, поднялась на качественно новый, на мировой уровень… и тотчас одернул себя вопросом: что это такое, израильская поэзия на русском языке? Она что, местом жительства определяется? Эмиграции больше нет. Противостояние — кончилось; тысячи людей живут в Израиле с русскими паспортами и не знают, русские они или евреи. С поэтами – и того труднее: Добрович — москвич, Игнатова — православная…
Год Орвелла кончился. Следующий год, 1985-й, когда еврейский выезд из СССР достиг абсолютного минимума, начался для меня фантастической перепиской с Ниной Берберовой и Львом Лосевым — и, естественно, ссорой с ними; с кем же я не ссорился? В 1985 году, 17 февраля, в один и тот же день, мы с Таней начали работать… точнее, она начала работать, а я получил место.

По интенсивности — эти первые полгода в Израиле были самыми насыщенными в моей жизни. Можно сказать и так: самыми счастливыми. «Такой неслыханной свободы я с детских лет не обретал…» Израиль вернул мне всё, что отняла Россия, начиная с человеческого достоинства; всё, что можно было вернуть человеку, чья жизнь уже в значительной степени погублена. Я оказался в стране, текущей молоком и медом. За всю предшествовавшую жизнь не видел я столько доброты и отзывчивости, ума и тонкости; не получал в таком избытке человеческого тепла, как за эти шесть месяцев в Израиле. Интеллектуальный климат, культурное эхо — были упоительны. Я очутился в сказке, в раю. Евреи-сионисты превратили пустыню в цветущий сад, в прямом и переносном смысле. Это была страна людей — то, во что уже невозможно было верить в России, где товарищ норовил загрызть товарища. Это была страна совести и смысла… потому что евреи — совесть мира. Виктор Гюго, которого я обожал в детстве, честный, последовательный антисемит («Ты убил человека! — Нет, еврея!»), — и тот проговорился: «Ты — словно моя совесть!» — вот что слышит еврей от убийцы, перед тем, как быть убитым. Это была лучшая страна на свете. Благодарность к ней настолько переполняла меня, что я с радостью, по первому слову, отдал бы тогда жизнь за нее… точнее, так я чувствовал, и с пылом самым неподдельным, а вместе с тем прекрасно понимал, что никто этого слова не произнесет... Я тоже страстно хотел стать совестью мира, да не сдюжил, хоть и прожил в Израиле еще пять лет... Что выросло, то выросло; не всё стриги, что растёт.
И вместе с тем — это была пустыня. Не повторю за Пушкиным: нам целый мир пустыня — и не потому только, что нет больше в этом мире Царского села. Куда страшнее другое: в нем нет больше местоимения мы. Нет для меня. Я жизнь положил на то, чтобы обрести это местоимение, но каждая новая попытка только отдаляла меня от счастливого братства единомышленников.
Год Орвелла кончился, но жизнь продолжалась, и преинтересная; ЕБЖ, переживу ее заново, а пока, забегая вперед, скажу самое главное: за все мои годы в Израиле, числом пять с половиной, в лучшей стране на свете нашелся один-единственный пакостник, постоянно отравлявший мне жизнь: я сам.
4 июля 2008 – 12 марта 2009,
Боремвуд, Хартфордшир;
помещено в сеть 20 марта 2010
отдельным изданием:
Юрий Колкер.
В Иудейской пустыне, или Как я был антисемитом.
HMG Press, Denver, CO, 2010.